РЕЛЯТИВИЗМ — это… Что такое РЕЛЯТИВИЗМ?
РЕЛЯТИВИЗМ — (от лат. relativus относительный) филос. принцип интерпретации природных, социокультурных, мировоззренческих, когнитивных объектов в их отношении друг к другу и своему окружению. Р. подчеркивает примат связи объектов над их субстанциальными… … Философская энциклопедия
Релятивизм — Релятивизм ♦ Relativisme Учение, утверждающее невозможность абсолютного учения. В широком смысле слова это, конечно, не более чем трюизм. Разве конечный разум способен получить абсолютный доступ к абсолюту, если абсолют есть бесконечный… … Философский словарь Спонвиля
РЕЛЯТИВИЗМ — (от лат. relatio отношение). Учение об относительности всякого познания в зависимости от познающего субъекта. (Протатор: человек есть мера всех вещей) или от законов сознания (Конт). Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.… … Словарь иностранных слов русского языка
Релятивизм
 relativus салыстырмалы) – онтологиялық құрылымдарды, танымды және қоғамдық қызметті (мәдениетті) талдау мен түсіндіруінің теориялық концепциясы мен әдіснамалық принципті қолдану нәтижесінде әлеуметтік білімнің салыстырмалылығын білдіретін… … Философиялық терминдердің сөздігі
relativus салыстырмалы) – онтологиялық құрылымдарды, танымды және қоғамдық қызметті (мәдениетті) талдау мен түсіндіруінің теориялық концепциясы мен әдіснамалық принципті қолдану нәтижесінде әлеуметтік білімнің салыстырмалылығын білдіретін… … Философиялық терминдердің сөздігіРЕЛЯТИВИЗМ — (от латинского relativus относительный), признание относительности, условности и субъективности познания, отрицание абсолютных этических норм и правил. В познании релятивизм нередко ведет к агностицизму … Современная энциклопедия
РЕЛЯТИВИЗМ — (от лат. relativus относительный) признание относительности, условности и субъективности познания, отрицание абсолютных этических норм и правил. В познании релятивизм нередко ведет к агностицизму … Большой Энциклопедический словарь
релятивизм — относительность Словарь русских синонимов. релятивизм сущ., кол во синонимов: 2 • относительность (4) • … Словарь синонимов
релятивизм — а, м. relativisme m.> нем. Relativismus < лат. relativus относительный. филос. Концепция, согласно которой все наши знания относительны и условны и тем самым объективное познание действительности невозможно. Крысин 1998. || Екатерина… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
relativisme m.> нем. Relativismus < лат. relativus относительный. филос. Концепция, согласно которой все наши знания относительны и условны и тем самым объективное познание действительности невозможно. Крысин 1998. || Екатерина… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
РЕЛЯТИВИЗМ — РЕЛЯТИВИЗМ, релятивизма, мн. нет, муж. (от лат. relativus относительный) (научн.). 1. Философское идеалистическое учение, отрицающее возможность объективного познания и существование абсолютных истин и считающее все знания относительными (филос.) … Толковый словарь Ушакова
РЕЛЯТИВИЗМ — РЕЛЯТИВИЗМ, а, муж. В философии: методологическая позиция, сторонники к рой, абсолютизируя относительность и условность всех наших знаний, считают невозможным объективное познание действительности. | прил. релятивистский, ая, ое. Толковый словарь … Толковый словарь Ожегова
РЕЛЯТИВИЗМ — (от лат. relativus относительный) англ. relativism; нем. Relativismus. Методол. принцип анализа и инвентаризации познания, мировоззренческих систем, культуры, состоящий в абсолютизации качественной нестабильности явлений, их зависимости от… … Энциклопедия социологии
relativism; нем. Relativismus. Методол. принцип анализа и инвентаризации познания, мировоззренческих систем, культуры, состоящий в абсолютизации качественной нестабильности явлений, их зависимости от… … Энциклопедия социологии
Релятивизм — это… Что такое Релятивизм?
Релятивизм (от лат. relativus — относительный) — методологический принцип, состоящий в метафизической абсолютизации относительности и условности содержания познания.
Релятивизм проистекает из одностороннего подчёркивания постоянной изменчивости действительности и отрицания относительной устойчивости вещей и явлений. Гносеологические корни релятивизма — отказ от признания преемственности в развитии знания, преувеличение зависимости процесса познания от его условий (например, от биологических потребностей субъекта, его психического состояния или наличных логических форм и теоретических средств). Факт развития познания, в ходе которого преодолевается любой достигнутый уровень знания, релятивисты рассматривают как доказательство его неистинности, субъективности, что приводит к отрицанию объективности познания вообще, к агностицизму.
Релятивизм как методологическая установка восходит к учению древнегреческих софистов: из тезиса Протагора «человек есть мера всех вещей…» следует признание основой познания только текучей чувственности, не отражающей каких-либо объективных и устойчивых явлений.
Элементы релятивизма характерны для античного скептицизма: обнаруживая неполноту и условность знаний, зависимость их от исторических условий процесса познания, скептицизм преувеличивает значение этих моментов, истолковывает их как свидетельство недостоверности всякого знания вообще.
Аргументы релятивизма философы XVI—XVIII веков (Эразм Роттердамский, М. Монтень, П. Бейль) использовали для критики догматов религии и основоположений метафизики. Иную роль релятивизм играет в идеалистическом эмпиризме (Дж. Беркли, Д. Юм; махизм, прагматизм, неопозитивизм). Абсолютизация относительности, условности и субъективности познания, вытекающая из сведения процесса познания к эмпирическому описанию содержания ощущений, служит здесь обоснованием субъективизма.
См. также
Примечания
4. «Внутренний реализм» и релятивизм. Философия Х. Патнэма
4. «Внутренний реализм» и релятивизм
В этом параграфе мы рассмотрим, во-первых, обоснование Патнэмом нетождествественности внутреннего реализма релятивизму, и, во-вторых, его критические аргументы против релятивизма.
Итак, согласно Патнэму, «интернализм не является простым релятивизмом, признающим, что «Все сойдет» («Anything goes»)» [124]. В обоснование этого утверждения Патнэм выдвигает аргументы, которые, на наш взгляд, свидетельствуют о его отказе строго следовать принципу когерентности в понимании истины. Каковы же эти аргументы?
Во-первых, важное отличие внутреннего реализма от релятивизма, согласно Патнэму, состоит в том, что если, с точки зрения релятивизма, все концептуальные схемы и описания мира одинаково хороши, то внутренний реализм так не считает, поскольку, с его точки зрения, «знание – это не рассказ без ограничений за исключением внутренней согласованности» [125].
Приведенный пример свидетельствует о том, что Патнэм признает в качестве критериев истины не только когерентность (понимаемую как непротиворечивость), но и согласованность с внешним миром, практическую эффективность и полезность.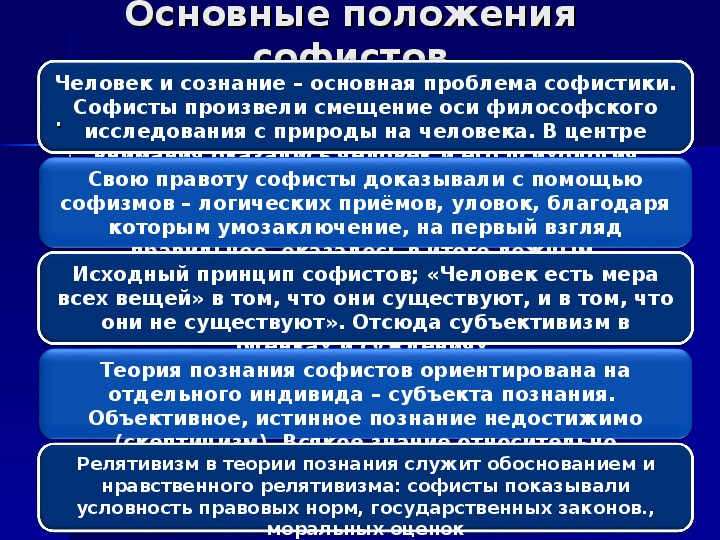 А поскольку как реалист (хотя и внутренний) он не отрицает существование объективного мира, то в целом это означает, что он неявно признает воздействие этого объективного мира на нас, воздействие, благодаря которому мы корректируем свои теории и концептуальные схемы (например, мы не принимаем теорию, утверждающую, что люди могут летать, выпрыгнув из окна). В то же время Патнэм считает, что на основе воздействия объективного мира на нас, существ с определенной биологической конституцией и рациональной природой, мы ничего не можем сказать о самом мире, как он есть «сам по себе». Мы можем судить только о мире, который дан нам в опыте и который изначально структурирован концептуальной схемой нашего языка. В противном случае мы должны были бы, по мнению Патнэма, предположить одно-однозначное соответствие между нашими концептуальными схемами и объективным миром, однако для такого предположения у нас нет никакого основания. В этом Патнэм абсолютно прав, у нас действительно нет оснований для такого предположения.
А поскольку как реалист (хотя и внутренний) он не отрицает существование объективного мира, то в целом это означает, что он неявно признает воздействие этого объективного мира на нас, воздействие, благодаря которому мы корректируем свои теории и концептуальные схемы (например, мы не принимаем теорию, утверждающую, что люди могут летать, выпрыгнув из окна). В то же время Патнэм считает, что на основе воздействия объективного мира на нас, существ с определенной биологической конституцией и рациональной природой, мы ничего не можем сказать о самом мире, как он есть «сам по себе». Мы можем судить только о мире, который дан нам в опыте и который изначально структурирован концептуальной схемой нашего языка. В противном случае мы должны были бы, по мнению Патнэма, предположить одно-однозначное соответствие между нашими концептуальными схемами и объективным миром, однако для такого предположения у нас нет никакого основания. В этом Патнэм абсолютно прав, у нас действительно нет оснований для такого предположения.
адекватные описания мира, приближаясь тем самым к истине, которая полностью никогда не достижима.
Если мы теперь сравним концепцию внутреннего реализма Патнэма и корреспондентную теорию истины с точки зрения признания ими воздействия объективного мира и необходимости согласовывать наши теории и описания с этим воздействием, то мы не можем не обнаружить определенные точки соприкосновения. И хотя Патнэм отвергает идею соответствия и предпочитает говорить об «объективной подогнанности», на наш взгляд, это во многом уже является терминологическим различием, а не различием по существу. Таким образом, мы видим, что концепция внутреннего реализма соединяет в себе как элементы когерентной теории истины, так и элементы, свидетельствующие о ее близости к корреспондентной теории.
Второе важное отличие между релятивизмом и интернализмом Патнэм видит в том, что если релятивизм отрицает какую-либо объективность нашего знания, то интернализм признает существование объективного знания. Эта объективность, по его мнению, определяется нашими понятиями когерентности и рациональной приемлемости, и хотя она является «объективностью для нас», а не метафизической объективностью с точки зрения Бога, это лучше чем вообще ничего. Попытаемся разобраться, какой смысл Патнэм вкладывает в понятие объективности. Учитывая, что рациональность в его понимании не является набором неизменных и вечных канонов или принципов, а исторически изменяется, то из этого можно было бы заключить, что объективным, с его точки зрения, является то, что представляется таковым людям разных культур на основе принятых ими стандартов рациональности и когерентности. Таким образом, объективность в понимании Патнэма, по существу, означает простую общезначимость. Однако хорошо известно, что общезначимость не позволяет полностью преодолеть релятивизм, поскольку то, что считается общезначимым в одной культуре, может не быть общезначимым в другой культуре и т.д. Во избежание столь неприятного следствия Патнэм вынужден вносить существенные уточнения в свое понимание объективности, которые в определенном смысле не согласуются с основными положениями его концепции. Так, он отмечает, что отрицание им фиксированного внеисторического органона рациональности не означает, что «наши концепции о разуме эволюционируют в истории и что разум может быть чем угодно (или может эволюционировать во что угодно)» [126].
Попытаемся разобраться, какой смысл Патнэм вкладывает в понятие объективности. Учитывая, что рациональность в его понимании не является набором неизменных и вечных канонов или принципов, а исторически изменяется, то из этого можно было бы заключить, что объективным, с его точки зрения, является то, что представляется таковым людям разных культур на основе принятых ими стандартов рациональности и когерентности. Таким образом, объективность в понимании Патнэма, по существу, означает простую общезначимость. Однако хорошо известно, что общезначимость не позволяет полностью преодолеть релятивизм, поскольку то, что считается общезначимым в одной культуре, может не быть общезначимым в другой культуре и т.д. Во избежание столь неприятного следствия Патнэм вынужден вносить существенные уточнения в свое понимание объективности, которые в определенном смысле не согласуются с основными положениями его концепции. Так, он отмечает, что отрицание им фиксированного внеисторического органона рациональности не означает, что «наши концепции о разуме эволюционируют в истории и что разум может быть чем угодно (или может эволюционировать во что угодно)» [126].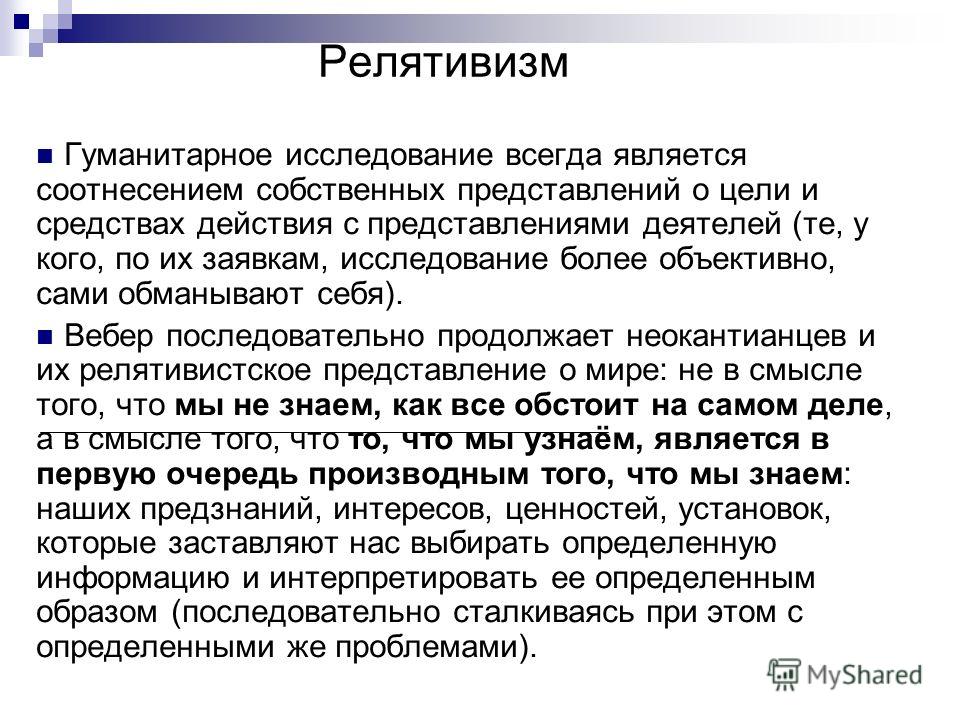 Поясняя свою мысль, Патнэм проводит аналогию между терминами естественных видов и рациональностью. Так, о принадлежности некоторого объекта к естественному виду мы говорим при условии, если рассматриваемый объект обладает той же внутренней природой, что и парадигмальные образцы данного естественного вида (хотя наши современные методы распознавания могут и не быть достаточными для установления этого). Поэтому, считает Патнэм, естественно предположить некоторую идеальную теорию, которая раскрывает внутреннюю природу естественного вида и тем самым определяет направление конвергенции наших концепций об этом естественном виде. Аналогичным образом «рациональность какого-либо мнения определяется не нормами рациональности той или иной культуры, а идеальной теорией рациональности, теорией, которая формулирует необходимые и достаточные условия для признания мнения рациональным при соответствующих условиях в любом возможном мире» [127]. Точно так же, как древние греки могли ошибочно считать золотом образцы металла, которые на основе современной теории и методов проверки легко распознаются как не золото, – так и мнения, считавшиеся некогда рациональными, могут не оказаться таковыми с точки зрения более адекватного понимания рациональности.
Поясняя свою мысль, Патнэм проводит аналогию между терминами естественных видов и рациональностью. Так, о принадлежности некоторого объекта к естественному виду мы говорим при условии, если рассматриваемый объект обладает той же внутренней природой, что и парадигмальные образцы данного естественного вида (хотя наши современные методы распознавания могут и не быть достаточными для установления этого). Поэтому, считает Патнэм, естественно предположить некоторую идеальную теорию, которая раскрывает внутреннюю природу естественного вида и тем самым определяет направление конвергенции наших концепций об этом естественном виде. Аналогичным образом «рациональность какого-либо мнения определяется не нормами рациональности той или иной культуры, а идеальной теорией рациональности, теорией, которая формулирует необходимые и достаточные условия для признания мнения рациональным при соответствующих условиях в любом возможном мире» [127]. Точно так же, как древние греки могли ошибочно считать золотом образцы металла, которые на основе современной теории и методов проверки легко распознаются как не золото, – так и мнения, считавшиеся некогда рациональными, могут не оказаться таковыми с точки зрения более адекватного понимания рациональности. Более того, согласно Патнэму, эти мнения не были рациональными и тогда, когда их ошибочно считали рациональными, – как не принадлежали к экстенсионалу слова «золото» и во времена древних греков образцы металла, которые тогда ошибочно считались золотом. Таким образом, процесс создания человеком все более совершенных философских концепций рациональности постепенно конвергирует к идеальной теории, благодаря чему представления о разумном и рациональном не могут быть какими угодно.
Более того, согласно Патнэму, эти мнения не были рациональными и тогда, когда их ошибочно считали рациональными, – как не принадлежали к экстенсионалу слова «золото» и во времена древних греков образцы металла, которые тогда ошибочно считались золотом. Таким образом, процесс создания человеком все более совершенных философских концепций рациональности постепенно конвергирует к идеальной теории, благодаря чему представления о разумном и рациональном не могут быть какими угодно.
Допущение об идеальной теории рациональности, безусловно, позволяет Патнэму преодолеть релятивизм и избежать сведения объективности к простой общезначимости. Однако это допущение является очень сильной идеализацией, правомерность которой не столь уж бесспорна. Отметим также, что это допущение получает дальнейшую конкретизацию в тезисе Патнэма об «эпистемически идеальных условиях». Понятие «эпистемически идеальных условий» Патнэм вводит для того, чтобы провести различие между истиной и рациональной приемлемостью. И хотя в целом он определяет истину как рациональную приемлемость, тем не менее он считает, что «истина не может быть просто рациональной приемлемостью в силу одной фундаментальной причины: истина является свойством утверждения, которое не может быть утрачено в то время, как оправдание (justification) может быть утрачено» [128]. Так, утверждение «Земля является плоской» было рационально приемлемым 3000 лет назад, однако было бы неправильным полагать, что это утверждение было истинным 3000 лет назад, поскольку это означало бы, что за указанный период времени (3000 лет) Земля изменила свою форму. Если рациональная приемлемость зависит от времени и от человека и допускает степень, то истина не имеет такой зависимости. Из этого следует, считает Патнэм, что «истина – это идеализация рациональной приемлемости. Мы говорим, как если бы существовали эпистемически идеальные условия. Мы называем утверждение «истинным», если бы оно имело оправдание при этих условиях» [129]. Патнэм уподобляет эпистемически идеальные условия самолетам без трения: мы никогда не сможем создать такие самолеты, но, снижая коэффициент трения, мы постоянно к ним приближаемся.
И хотя в целом он определяет истину как рациональную приемлемость, тем не менее он считает, что «истина не может быть просто рациональной приемлемостью в силу одной фундаментальной причины: истина является свойством утверждения, которое не может быть утрачено в то время, как оправдание (justification) может быть утрачено» [128]. Так, утверждение «Земля является плоской» было рационально приемлемым 3000 лет назад, однако было бы неправильным полагать, что это утверждение было истинным 3000 лет назад, поскольку это означало бы, что за указанный период времени (3000 лет) Земля изменила свою форму. Если рациональная приемлемость зависит от времени и от человека и допускает степень, то истина не имеет такой зависимости. Из этого следует, считает Патнэм, что «истина – это идеализация рациональной приемлемости. Мы говорим, как если бы существовали эпистемически идеальные условия. Мы называем утверждение «истинным», если бы оно имело оправдание при этих условиях» [129]. Патнэм уподобляет эпистемически идеальные условия самолетам без трения: мы никогда не сможем создать такие самолеты, но, снижая коэффициент трения, мы постоянно к ним приближаемся. Подводя итог, Патнэм формулирует две ключевые, с его точки зрения, идеи теории истины:
Подводя итог, Патнэм формулирует две ключевые, с его точки зрения, идеи теории истины:
1) «истина не зависит от оправдания здесь и теперь, но зависит от оправдания в целом. Говорить, что утверждение является истинным, – значит говорить, что оно могло бы быть оправдано» [130];
2) «истина является устойчивой или «конвергентной»» [131].
Хотя Патнэм нигде не указывает, что конкретно он имеет в виду под эпистемически идеальными условиями, однако, их, видимо, следует понимать как такие условия проведения исследования, когда имеются абсолютно точные приборы и инструменты, когда можно провести любые измерения и наблюдения, поставить любой эксперимент, получить доступ к любому объекту изучения и т.д., то есть когда можно установить истинность любого предложения. Какие следствия имеет принятие такого допущения, станет понятным, если мы обратимся к следующему простому примеру. Рассмотрим предложение «В день, когда родился Гераклит, шел дождь». Согласно корреспондентной теории истины, это предложение обладает значением истинности в абсолютном смысле, то есть независимо от того, сможем ли мы когда-нибудь установить, шел ли в тот день дождь или нет. Это связано с тем, что для корреспондентной теории истины при определении истинности предложения важен лишь сам факт, что мысль, выраженная в предложении, соответствует действительности или нет. Патнэм же, определяя истину как рациональную приемлемость, подчеркивает важность учитывать критерий истины при ее определении. Это означает, что мы можем говорить об истинности или ложности какого-либо предложения только в том случае, если у нас есть возможность установить это. Поскольку мы не располагаем средствами для установления истинности предложения «В день, когда родился Гераклит, шел дождь», вопрос о его значении истинности при таком подходе должен быть снят. Таким образом, определение истины как рациональной приемлемости ограничивает класс предложений, о значении истинности которых мы можем судить, только теми предложениями, в отношении которых нам даны условия их оправдания (или подтверждения). Когда же Патнэм уточняет свое определение и говорит, что истина – это рациональная приемлемость при эпистемически идеальных условиях, он, по существу, возвращается к пониманию значения истинности предложения в абсолютном смысле, поскольку при эпистемически идеальных условиях нам даны все возможные условия оправдания – для установления значения истинности любого предложения, и в этом случае предложение «В день, когда родился Гераклит, шел дождь» обладает значением истинности.
Это связано с тем, что для корреспондентной теории истины при определении истинности предложения важен лишь сам факт, что мысль, выраженная в предложении, соответствует действительности или нет. Патнэм же, определяя истину как рациональную приемлемость, подчеркивает важность учитывать критерий истины при ее определении. Это означает, что мы можем говорить об истинности или ложности какого-либо предложения только в том случае, если у нас есть возможность установить это. Поскольку мы не располагаем средствами для установления истинности предложения «В день, когда родился Гераклит, шел дождь», вопрос о его значении истинности при таком подходе должен быть снят. Таким образом, определение истины как рациональной приемлемости ограничивает класс предложений, о значении истинности которых мы можем судить, только теми предложениями, в отношении которых нам даны условия их оправдания (или подтверждения). Когда же Патнэм уточняет свое определение и говорит, что истина – это рациональная приемлемость при эпистемически идеальных условиях, он, по существу, возвращается к пониманию значения истинности предложения в абсолютном смысле, поскольку при эпистемически идеальных условиях нам даны все возможные условия оправдания – для установления значения истинности любого предложения, и в этом случае предложение «В день, когда родился Гераклит, шел дождь» обладает значением истинности. Это означает, что Патнэм вводит идеализацию, которая является не менее сильной, чем та, что лежит в основании критикуемой им корреспондентной теории истины. В корреспондентной теории эта идеализация связана с понятием соответствия, поскольку здесь на основе согласованности наших теорий и концептуальных схем с тем воздействием, которое внешний мир оказывает на наши органы чувств, делается вывод о «соответствии» этих теорий и концептуальных схем действительности. У Патнэма идеализация связана с понятием эпистемически идеальных условий (и с понятием идеальной теории рациональности), поскольку в реальности мы имеем лишь вполне конкретные, «неидеальные» условия оправдания и «неидеальную» концепцию рациональности.
Это означает, что Патнэм вводит идеализацию, которая является не менее сильной, чем та, что лежит в основании критикуемой им корреспондентной теории истины. В корреспондентной теории эта идеализация связана с понятием соответствия, поскольку здесь на основе согласованности наших теорий и концептуальных схем с тем воздействием, которое внешний мир оказывает на наши органы чувств, делается вывод о «соответствии» этих теорий и концептуальных схем действительности. У Патнэма идеализация связана с понятием эпистемически идеальных условий (и с понятием идеальной теории рациональности), поскольку в реальности мы имеем лишь вполне конкретные, «неидеальные» условия оправдания и «неидеальную» концепцию рациональности.
Таким образом, мы видим, что стремясь избежать обвинения в релятивизме, Патнэм вносит такие поправки в свою концепцию истины и принимает такие допущения, которые делают его концепцию, с точки зрения эпистемических оснований, равнозначной корреспондентной теории истины, хотя при этом Патнэм отвергает идею соответствия и говорит лишь об «объективной подогнанности» наших концептуальных схем и теорий к внешнему миру. О совпадении ряда эпистемических оснований внутреннего реализма и корреспондентной теории истины свидетельствуют и предложенные Патнэмом критические аргументы против релятивизма.
О совпадении ряда эпистемических оснований внутреннего реализма и корреспондентной теории истины свидетельствуют и предложенные Патнэмом критические аргументы против релятивизма.
Согласно Патнэму, идея релятивизма является очень простой. Она выражается в том, что каждый человек (каждый дискурс или каждая культура) имеют свои взгляды, нормы, предположения и т.д., а истина (и, соответственно, оправдание) являются понятиями, зависимыми от этих взглядов, норм и т.д. Таким образом, согласно релятивизму, не существует объективного понятия истины, а может быть только истина-для-меня, истина-для-него и т.д. Однако, отмечает Патнэм, релятивист, как правило, неявно принимает, что утверждение «Х истинно относительно человека Р» само является чем-то абсолютным. Поэтому, чтобы быть последовательным, релятивист должен был бы признать, что и указанное утверждение («Х истинно относительно Р») является относительным, и тем самым должен был бы признать, что «если все относительно, то и относительное также является относительным» [132].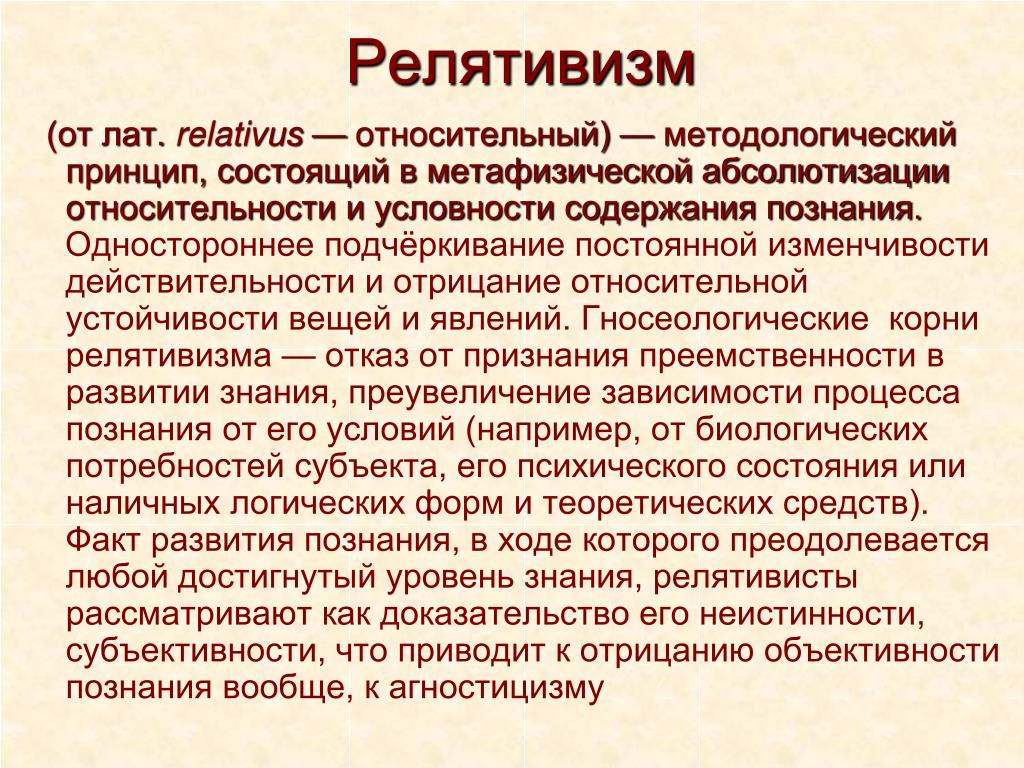 Однако это допущение имеет, по мнению Патнэма, неприятные следствия для релятивиста. Для того, чтобы показать, каковы эти следствия, Патнэм обращается к аргументу Л.Витгенштейна, направленному против идеи «приватного языка». Под приватным языком Витгенштейн понимает язык, с помощью которого человек мог бы обозначать свои ощущения и внутренние состояния, недоступные внешнему наблюдению. Специфика этих внутренних состояний заключается в том, что человек имеет к ним привилегированный доступ.
Однако это допущение имеет, по мнению Патнэма, неприятные следствия для релятивиста. Для того, чтобы показать, каковы эти следствия, Патнэм обращается к аргументу Л.Витгенштейна, направленному против идеи «приватного языка». Под приватным языком Витгенштейн понимает язык, с помощью которого человек мог бы обозначать свои ощущения и внутренние состояния, недоступные внешнему наблюдению. Специфика этих внутренних состояний заключается в том, что человек имеет к ним привилегированный доступ.
Изложение этого аргумента приводится Витгенштейном в разделах 243-351 его «Философских исследований». Точное воспроизведение этого аргумента представляется делом сложным, поэтому мы попытаемся лишь реконструировать его основную идею.
Итак, согласно Витгенштейну, приватный язык невозможен. Это обусловлено тем, считает Витгенштейн, что привилегированный доступ человека к собственным ощущениям является фактом грамматики общественного языка. Мы через различные языковые игры обучаемся использовать слова, обозначающие ощущения (например, «боль»), таким образом, что это гарантирует их привилегированное использование от первого лица.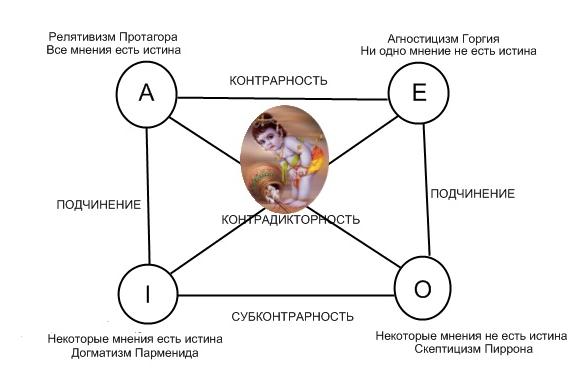 И то обстоятельство, что мы безошибочно употребляем эти слова по отношению к себе (но можем совершать ошибки, применяя их к другим людям), также гарантируется грамматикой нашего общественного языка. У создателя же приватного языка такой гарантии не может быть. Мы не можем найти никакого критерия, который бы позволил человеку, использующему приватный язык, быть уверенным, что его слова имеют референцию. Он может ошибаться или не ошибаться относительно референции своих слов и никогда не узнать этого. Это происходит потому, что не существует никакого критерия правильности, никакого правила, которое соединило бы его слова с его внутренними ментальными состояниями, поскольку такое соединение возможно только в языковых играх благодаря тому, что ощущения находят свое выражение в поведении.
И то обстоятельство, что мы безошибочно употребляем эти слова по отношению к себе (но можем совершать ошибки, применяя их к другим людям), также гарантируется грамматикой нашего общественного языка. У создателя же приватного языка такой гарантии не может быть. Мы не можем найти никакого критерия, который бы позволил человеку, использующему приватный язык, быть уверенным, что его слова имеют референцию. Он может ошибаться или не ошибаться относительно референции своих слов и никогда не узнать этого. Это происходит потому, что не существует никакого критерия правильности, никакого правила, которое соединило бы его слова с его внутренними ментальными состояниями, поскольку такое соединение возможно только в языковых играх благодаря тому, что ощущения находят свое выражение в поведении.
Патнэм уподобляет релятивиста человеку, пытающемуся создать приватный язык, так как релятивист говорит только об «истине-для-меня», «рациональности-для-меня» и т.д. А поскольку, полагает Патнэм, в приватном языке нельзя провести различие между тем, что является правильным, и тем, что некто считает правильным, то аргумент Витгенштейна «является превосходным аргументом против релятивизма в целом» [133].
Итак, согласно Патнэму, для релятивиста не существует различия между «быть правым» и «считать себя правым», поскольку, с точки зрения релятивиста, истинным является лишь то, что представляется истинным кому-либо. Однако из этого следует, считает Патнэм, что для релятивиста не существует «различия между рассуждением и мышлением, с одной стороны, и произнесением звуков (или порождением ментальных образов), с другой стороны.» [134] Дело в том, что последовательный релятивист вынужден отказаться от каких-либо объективных критериев мыслительной деятельности и вынужден считать истину и рациональную приемлемость чисто субъективными понятиями. Но в этом случае он не способен предложить ни одного критерия, по которому можно было бы отличить осмысленную речь от случайного набора звуков и простого продуцирования ментальных образов. Тем самым, считает Патнэм, релятивист совершает «ментальное самоубийство», поскольку он упускает из виду, что «предпосылкой самой мысли является существование некоторого вида объективной «правильности»» [135] [136].
Из этой критики релятивизма с полной очевидностью вытекает, что Патнэм признает объективный характер истины и рациональной приемлемости. Причем нельзя не отметить характерную деталь. В своем рассуждении Патнэм опирается на такое понимание объективности, с которым согласился бы сторонник корреспондентной теории истины. Это означает, что признание «объективной подогнанности» наших концептуальных схем и теорий к внешнему миру имеет те же самые эпистемические основания и следствия, что и признание идеи «соответствия».
Если рассмотренный нами аргумент Патнэма имеет отношение к релятивизму в целом, то другой его аргумент направлен против конкретной формы релятивизма, а именно – против тезиса о несоизмеримости, выдвинутого Т.Куном и П.Фейерабендом. Критика этого тезиса проходит через все творчество Патнэма, и хотя выдвигаемые им аргументы становятся другими, общее негативное отношение к этому тезису не ослабевает. Мы уже рассматривали, в чем видел Патнэм несостоятельность тезиса о несоизмеримости на первом этапе своего творчества, когда он стоял на позициях корреспондентной теории истины. Теперь нам предстоит рассмотреть критические аргументы, выдвигаемые им уже с новой гносеологической позиции – с позиции внутреннего реализма.
Теперь нам предстоит рассмотреть критические аргументы, выдвигаемые им уже с новой гносеологической позиции – с позиции внутреннего реализма.
Согласно Патнэму, тезис о несоизмеримости выражает «крайний релятивизм», поскольку он предполагает, что каждая парадигма (научная теория или культура) обладает своим собственным набором стандартов рациональности, и поэтому об истине можно говорить только относительно какой-либо парадигмы. Более того, согласно этому тезису, не существует никаких объективных критериев для сравнения парадигм, и поэтому, говоря словами Куна, ученые разных парадигм «живут в разных мирах». По мнению Патнэма, в основе тезиса о несоизмеримости лежит допущение, что термины, используемые в других культурах, не могут быть равны по значению и референции каким-либо терминам и выражениям, используемым в нашей культуре. И именно это допущение продолжает быть основным объектом его критики.
Согласно Патнэму, если бы тезис о несоизмеримости был верен, то это означало бы невозможность перевода с других языков и с более ранних форм нашего собственного языка, а, следовательно, означало бы невозможность дать какую-либо интерпретацию звукам, произносимым членами других культур. Поэтому у нас не было бы никаких оснований допускать, что люди других культур являются личностями, способными мыслить, говорить и т.д. И в этом смысле, по мнению Патнэма, тезис о несоизмеримости является саморазрушающим. Во избежание этого следствия Кун и Фейерабенд вынуждены признать, что мы можем находить «схемы перевода», которые удовлетворительны с точки зрения наших интересов и стоящих перед нами задач, но которые при этом совершенно не передают смысл и референцию оригинального текста. Однако, отмечает Патнэм, говорить, что переводу не удалось точно передать смысл и референцию оригинального текста, можно только при допущении, что может быть найдена более удачная схема перевода. «Утверждение, что никакая из возможных схем перевода не может передать «реальный» смысл или «референцию», предполагает, что «существует «реальная» синонимия, независимая от всех работающих практик взаимной интерпретации» [137], однако эта идея, считает Патнэм, уже давно отброшена как миф.
Поэтому у нас не было бы никаких оснований допускать, что люди других культур являются личностями, способными мыслить, говорить и т.д. И в этом смысле, по мнению Патнэма, тезис о несоизмеримости является саморазрушающим. Во избежание этого следствия Кун и Фейерабенд вынуждены признать, что мы можем находить «схемы перевода», которые удовлетворительны с точки зрения наших интересов и стоящих перед нами задач, но которые при этом совершенно не передают смысл и референцию оригинального текста. Однако, отмечает Патнэм, говорить, что переводу не удалось точно передать смысл и референцию оригинального текста, можно только при допущении, что может быть найдена более удачная схема перевода. «Утверждение, что никакая из возможных схем перевода не может передать «реальный» смысл или «референцию», предполагает, что «существует «реальная» синонимия, независимая от всех работающих практик взаимной интерпретации» [137], однако эта идея, считает Патнэм, уже давно отброшена как миф.
Кроме того, Патнэм вновь обращается к своему старому аргументу, согласно которому в тезисе о несоизмеримости стирается различие между понятием и концепцией. При переводе какого-либо слова с другого языка мы приравниваем его референцию и смысл референции и смыслу нашего собственного термина, то есть, согласно Патнэму, мы приравниваем понятия, однако при этом концепции, связываемые с этим словом, могут сильно отличаться друг от друга. Различие концепций не доказывает невозможности перевода, наоборот, это различие можно установить только благодаря переводу. Как показали различные мыслители, начиная с Вико, «успех интерпретации не требует, чтобы представления переводимого автора были точно такими же, как наши собственные, он только предполагает, что они окажутся разумными для нас» [138]. Отношение к членам других культур и к собственным предкам как к личностям, наделенным способностью мыслить и говорить, предполагает, по мнению Патнэма, «приписывание им общих с нами референтов и понятий» [139]. Более того, помимо общих референтов и понятий мы разделяем с другими культурами большое множество допущений и представлений о том, что считать разумным, несмотря на все различие в наших образах знания и концепциях рациональности.
При переводе какого-либо слова с другого языка мы приравниваем его референцию и смысл референции и смыслу нашего собственного термина, то есть, согласно Патнэму, мы приравниваем понятия, однако при этом концепции, связываемые с этим словом, могут сильно отличаться друг от друга. Различие концепций не доказывает невозможности перевода, наоборот, это различие можно установить только благодаря переводу. Как показали различные мыслители, начиная с Вико, «успех интерпретации не требует, чтобы представления переводимого автора были точно такими же, как наши собственные, он только предполагает, что они окажутся разумными для нас» [138]. Отношение к членам других культур и к собственным предкам как к личностям, наделенным способностью мыслить и говорить, предполагает, по мнению Патнэма, «приписывание им общих с нами референтов и понятий» [139]. Более того, помимо общих референтов и понятий мы разделяем с другими культурами большое множество допущений и представлений о том, что считать разумным, несмотря на все различие в наших образах знания и концепциях рациональности.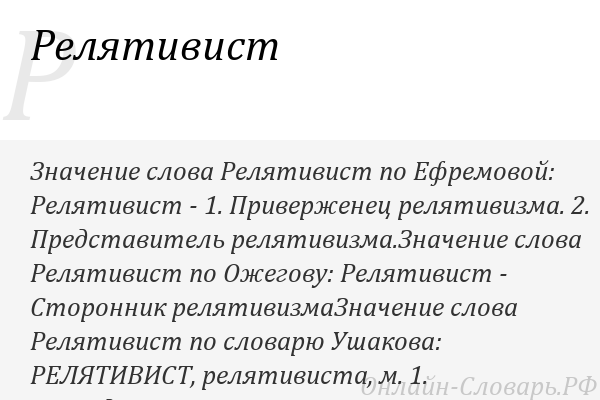
Критика Патнэмом тезиса о несоизмеримости представляет безусловный интерес и является довольно серьезным возражением против релятивизма. В основе этой критики лежит убеждение Патнэма о конвергенции наших знаний и о независимости истины от научной парадигмы или культуры. И хотя он объясняет объективность истины не идеей соответствия действительности, а тем, что представления различных культур о рациональном являются ступенями в общем процессе конвергенции к «идеальной теории рациональности», тем не менее между его позицией и корреспондентной теорией истины нельзя не усмотреть определенных параллелей. Характерно, что предложенная Патнэмом критика тезиса о несоизмеримости по духу очень близка к аргументам К.Поппера, выдвинутым им против релятивизма в статье «Миф концептуального каркаса» (“The Myth of the Framework”, 1976). Различие состоит лишь в том, что Патнэм стремится обосновать возможность перевода с языков других культур, а Поппер показывает возможность и плодотворность дискуссии между людьми, придерживающимися в корне различных концептуальных каркасов.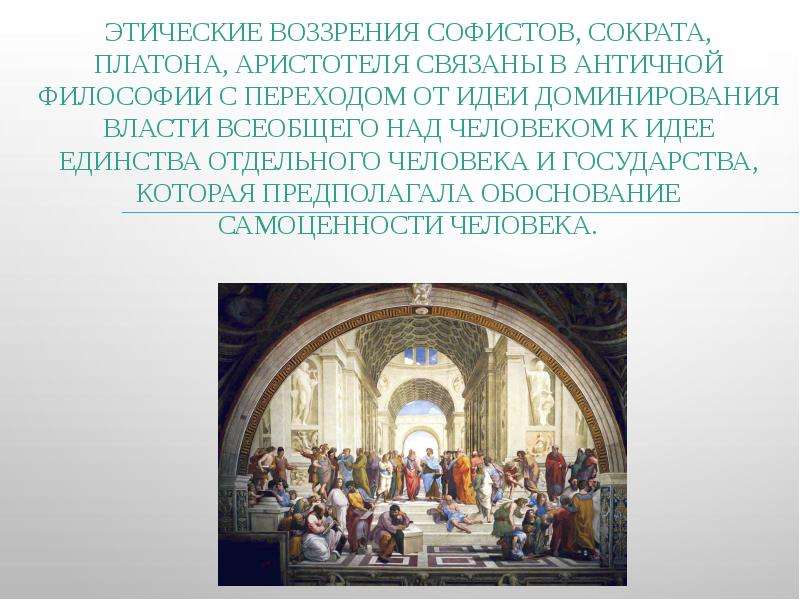 При этом не следует забывать, что Поппер трактует истину как соответствие реальности.
При этом не следует забывать, что Поппер трактует истину как соответствие реальности.
В своей книге «Разум, истина и история» Патнэм предлагает критические аргументы и против других форм релятивизма, однако мы ограничимся уже рассмотренными аргументами, поскольку они, на наш взгляд, являются достаточным подтверждением того, что концепция истины Патнэма по своим эпистемическим допущениям и следствиям близка к корреспондентной теории истины. В то же время эти аргументы свидетельствуют и о некоторой внутренней несогласованности концепции Патнэма. Противопоставляя свою концепцию метафизическому реализму, Патнэм так формулирует ее основные положения, что они говорят в пользу понимания им истины как некоторого вида когерентности наших представлений друг с другом. Однако, стремясь избежать обвинения в релятивизме, он, по существу, вносит такие уточнения и дополнения, которые свидетельствуют об отказе понимать истину как простую когерентность и означают внесение определенных объективных компонентов в ее трактовку.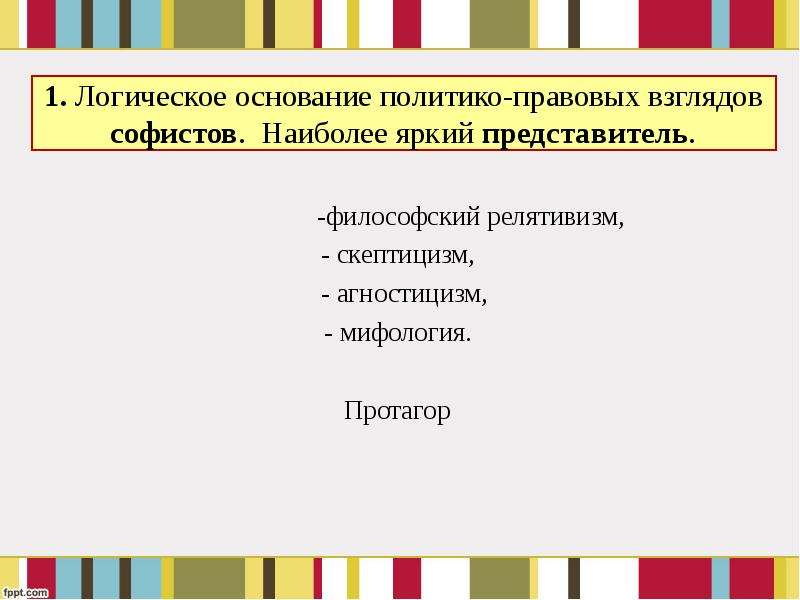 Это, безусловно, является серьезным недостатком концепции истины Патнэма. С другой стороны, нельзя не отметить и важного преимущества этой концепции перед корреспондентной теорией истины, состоящего в том, что она предлагает такое определение истины, которое включает в себя критерии ее установления.
Это, безусловно, является серьезным недостатком концепции истины Патнэма. С другой стороны, нельзя не отметить и важного преимущества этой концепции перед корреспондентной теорией истины, состоящего в том, что она предлагает такое определение истины, которое включает в себя критерии ее установления.
(PDF) Размышления над книгой «Релятивизм как болезнь современной философии»
215
ЯковлеваА.Ф.
бенности релятивизма по сравнению с кустом сходных на первый
взгляд понятий. Известный философ науки Дж. Агасси2 полагает,
что релятивизм – это не столько принятие относительной истины,
сколько отрицание истины абсолютной. Сразу заметим, что реля-
тивизм, скептицизм и плюрализм роднит то, что получение знания
основано на мнении. Само словообразование, объясняющее эти
явления, сомнение (скептицизм), разнообразие мнений (плюра-
лизм) определяет происходящий в их рамках познавательный про-
цесс. Это мнения, основанные на каком-то познавательном опыте,
Это мнения, основанные на каком-то познавательном опыте,
но обусловленные ситуацией. Однако, как пишет Е.О. Труфанова,
есть опасность, что «если любое мнение получит статус “знания”,
то знание перестанет существовать, будут существовать лишь мне-
ния» (c. 261). «Человеку, на которого обрушиваются информаци-c. 261). «Человеку, на которого обрушиваются информаци-. 261). «Человеку, на которого обрушиваются информаци-
онные потоки, все труднее отделить то, что существует на самом
деле, от того, что только кажется реальным, знание от мнения, ис-
тину от заблуждения и лжи», – замечает В.А. Лекторский (с. 7).
К. Поппер, говоря о релятивизме, ставит его на одну чашу
весов со скептицизмом, справедливо отмечая, что в основе обо-
их лежит отношение к проблеме истины, вернее убеждении в том,
что «объективной истины вообще нет»3. Е.Л. Черткова, наоборот,
различает эти два понятия, причем основываясь именно на этом
отношении к истине. Она соглашается с тем, что общность реля-
Она соглашается с тем, что общность реля-
тивизму и скептицизму придает присущая им многослойность и
утверждение о трудности процессов познания. Однако Черткова
выявляет принципиальную разницу между ними: «скептик под-
черкивает несоответствие между знанием и мнением, в то время
как релятивист отказывается признавать само это различие. Если
скептик обеспокоен вопросом, можем ли мы познать истину, т. е.
мир, каков он есть, то релятивист предлагает отрешиться от этого
вопроса и рассматривать познание как инструмент практического
согласования конвенциональных убеждений» (с. 129). Скептик со-
мневается в возможности нахождения истины, не отрицая суще-
ствования действительного положения дел и не утверждая, что у
разных людей своя истина, – пишет, в свою очередь В.А. Лектор-
ский (с. 10). При этом нужно учитывать, как замечает Н.С. Автоно-
2 AgassiJ. Kuhn’s way // Philosophy of the social sciences. 2002. September. Vol. 32.
2002. September. Vol. 32.
No. 3. P. 416–417.
3 ПопперК.Р. Открытое общество и его враги. Т. 2. С. 441.
Релятивизм — Универсальная научно-популярная энциклопедия
Релятивизм (от лат. relativus — относительный), методологический принцип, пребывающий в условности содержания и метафизической абсолютизации относительности познания. Р. проистекает из одностороннего подчёркивания постоянной изменчивости отрицания и действительности относительной устойчивости вещей и явлений.
Гносеологические корни Р. — отказ от признания преемственности в развитии знания, преувеличение зависимости процесса познания от его условий (к примеру, от биологических потребностей субъекта, его психологического состояния либо наличных логических теоретических средств и форм). Факт развития познания, на протяжении которого преодолевается любой достигнутый уровень знания, релятивисты разглядывают как подтверждение его неистинности, субъективности, что ведет к отрицанию объективности познания по большому счету, к агностицизму.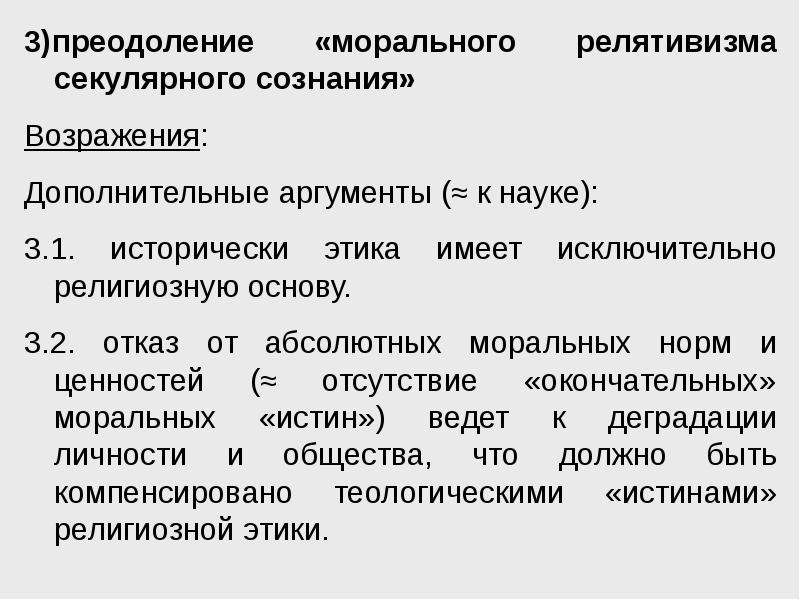
Р. как методологическая установка восходит к учению древнегреческих софистов: из тезиса Протагора человек имеется мера всех вещей… направляться признание базой познания лишь текучей чувственности, не отражающей каких-либо объективных и устойчивых явлений. Элементы Р. свойственны для древнего скептицизма: обнаруживая условность и неполноту знаний, зависимость их от исторических условий процесса познания, скептицизм преувеличивает значение этих моментов, истолковывает их как свидетельство недостоверности всякого знания по большому счету.
Доводы Р. философы 16—18 вв. (Эразм Роттердамский, М. Монтень, П. Бейль) применяли для критики догматов религии и основоположений метафизики. Иную роль Р. играется в идеалистическом эмпиризме (Дж. Беркли, Д. Юм; махизм, прагматизм, неопозитивизм).
Абсолютизация относительности, субъективности и условности познания, вытекающая из сведения процесса познания к эмпирическому описанию содержания ощущений, помогает тут обоснованием субъективизма.
Определённое влияние Р. приобрёл на рубеже 19 и 20 вв. в связи с философским осмыслением революции в физике. Опираясь на метафизическую теорию познания, игнорируя принцип историзма при анализе трансформации научных знаний, кое-какие философы и учёные говорили об полной относительности знаний (Э. Мах, И. Петцольдт),о полной их условности (Ж.
А. Пуанкаре)и т. п. Разбирая положение, сложившееся в физике и философии, В. И. Ленин писал: …Положить релятивизм в базу теории познания, значит неизбежно осудить себя или на полный скептицизм, агностицизм и софистику, или на субъективизм (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 18, с. 139).
В соответствии с диалектическому материализму, отечественные знания относительны не в смысле отрицания объективной истины, а в смысле признания исторической ограниченности каждого достигнутого уровня знаний. Вместе с тем в каждой относительной истине находятся элементы полной истины, что обусловливает развитие научного познания.
Р. как принцип понимания истории характерен для субъективно-идеалистических течений в буржуазной философии истории.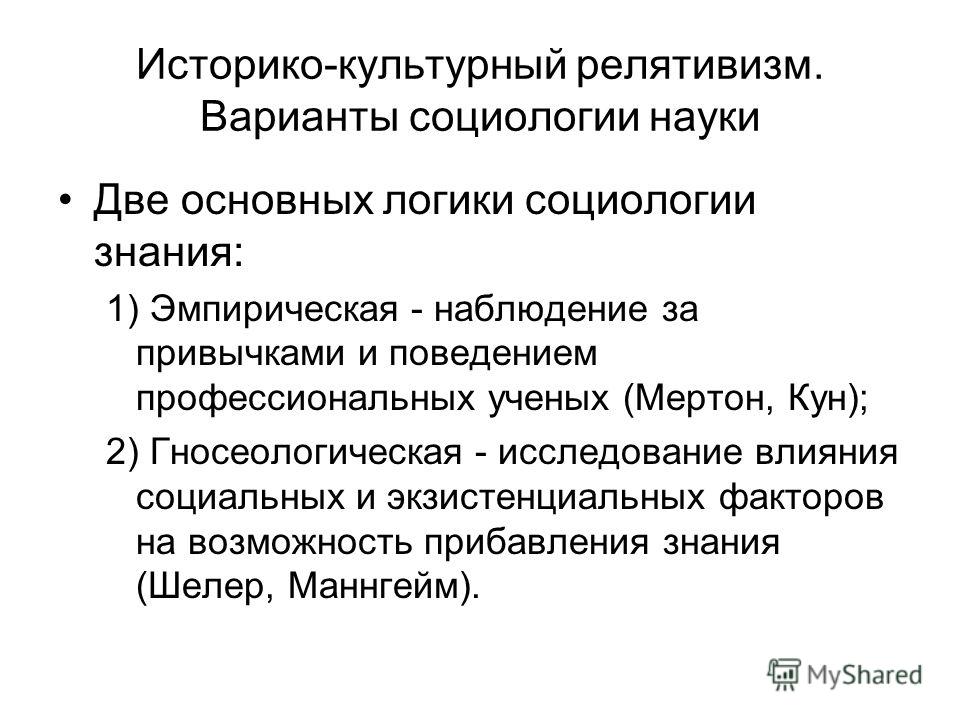 Отрицая объективность исторических знаний, кое-какие теоретики уверены в том, что суждения и оценки историков очень относительны и отражают их субъективные переживания, зависимость от определённых политических установок (см. Презентизм), что всякое воспроизведение исторического процесса результат произвола историка (Р.
Отрицая объективность исторических знаний, кое-какие теоретики уверены в том, что суждения и оценки историков очень относительны и отражают их субъективные переживания, зависимость от определённых политических установок (см. Презентизм), что всякое воспроизведение исторического процесса результат произвола историка (Р.
Арон).
Распространение принципа Р. на область нравственных взаимоотношений стало причиной происхождению этического Р., выражающегося в том, что моральным нормам придаётся очень относительный, всецело условный и изменчивый темперамент.
В различных исторических условиях принцип Р. имеет разное социальное значение. В некоторых случаях Р. объективно содействовал расшатыванию отживших социальных порядков, косности и догматического мышления. Значительно чаще Р. — выражение и следствие кризиса общества, попытка оправдания потери исторической возможности в его развитии.
Как раз исходя из этого Р. свойствен последовательности направлений современной буржуазной философии (философия судьбы, экзистенциализм, персонализм).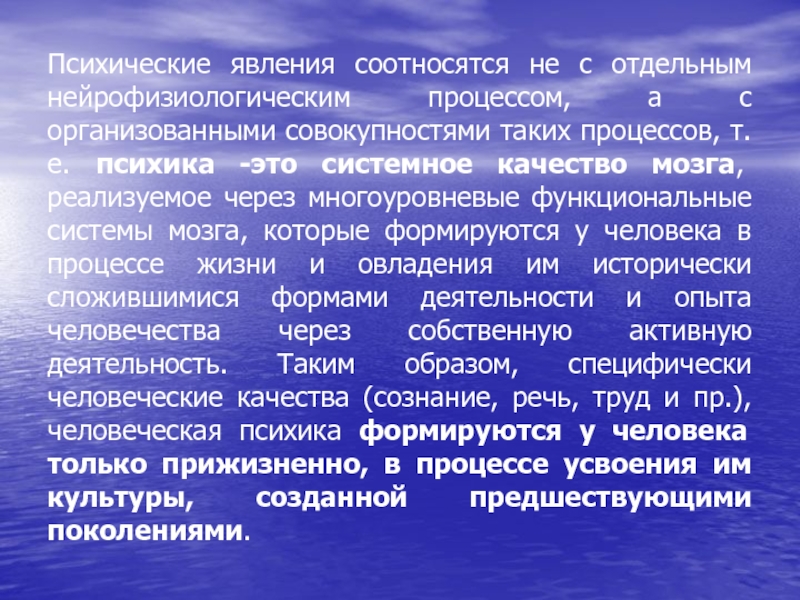
Лит.: Кон И. С., кризис и Философский идеализм буржуазной исторической мысли, М., 1959; Ойзерман Т. И., Главные философские направления, М., 1971, гл. 2; Парамонов Н. 3., Критика догматизма, релятивизма и скептицизма, М., 1973; Wein Н., Das Problem des Relativismus, В., 1950; Relativism and the study of man, ed. by Н. Schoeck and J. W. Wiggins, Princeton (N.Y.), 1961; Aron R., Introduction a la philosophie de l’histoire, nouv. ed., [P., 1967]: Mandelbaum M. H., The problem of historical knowledge: an answer to relativism, N. Y., 1967.
Н. П. Французова.
Читать также:
A504 Rus 12. Мир религий. Релятивизм
Связанные статьи:
Платон
Платон (Platon) (428 либо 427 до н. э., Афины, — 348 либо 347, в том месте же), древнегреческий философ. Появился в семье, имевшей аристократическое…
Философия истории
Философия истории, раздел философии, который связан с интерпретацией исторического познания и исторического процесса.
 проблематика и Содержание Ф. и….
проблематика и Содержание Ф. и….
- У Н-П энциклопедия
|
Интеллектуальный и моральный релятивизм — вот главная болезнь философии нашего времени. Причём моральный релятивизм, по крайней мере частично, основывается на интеллектуальном. Под релятивизмом или, если вам угодно, скептицизмом я имею в виду концепцию, согласно которой выбор между конкурирующими теориями произволен. В основании такой концепции лежит убеждение в том, что объективной истины вообще нет, а если она всё же есть, то всё равно нет теории, которая была бы истинной или, во всяком случае, хотя и не истинной, но более близкой к истине, чем некоторая другая теория. Иначе говоря, в случае двух или более теорий нет никаких способов и средств для ответа на вопрос, какая из них лучше. В этом «Дополнении» D. 1 я, во-первых, намереваюсь показать, что даже отдельные идеи теории истины А. 1. Истина«Что есть истина?» — в этом вопросе, задаваемом тоном убеждённого скептика, заранее уверенного в несуществовании ответа, кроются возможности защиты релятивизма. Однако на вопрос Понтия Пилата можно ответить просто и убедительно, хотя такой ответ вряд ли удовлетворит нашего скептика. Ответ этот заключается в следующем: утверждение, суждение, высказывание или мнение истинно, если и только если оно соответствует фактам. Что же, однако, мы имеем в виду, когда говорим о соответствии высказывания фактам? Хотя наш скептик или релятивист, пожалуй, скажет, что на этот второй вопрос так же невозможно ответить, как и на первый, на самом деле получить на него ответ столь же легко. В некотором смысле он действительно тривиален. Поскольку, согласно теории Тарского, проблема истины заключается в том, что мы нечто утверждаем или говорим о высказываниях и фактах, а также о некотором отношении соответствия между высказываниями и фактами, постольку решение интересующей нас проблемы состоит в том, что нечто утверждается или говорится о высказываниях и фактах, а также о некотором отношении между ними. Рассмотрим следующее утверждение: Высказывание «Смит вошёл в ломбард чуть позже 10.15» соответствует фактам, если и только если Смит вошёл в ломбард чуть позже 10.15. Когда вы прочтёте эту набранную курсивом фразу, то прежде всего, по всей вероятности, удивитесь её тривиальности. Однако не поддавайтесь обманчивому впечатлению. Продемонстрировать правильность идеи, сформулированной в набранной курсивом фразе, можно при помощи следующей фразы: Сделанное свидетелем заявление «Смит вошёл в ломбард чуть позже 10.15» истинно, если и только если Смит вошёл в ломбард чуть позже 10.15. Очевидно, что и эта набранная курсивом фраза достаточно тривиальна. Тем не менее в ней полностью приводятся условия применения предиката «истинно» к любому высказыванию, которое может сделать свидетель. Сравнивая третью набранную курсивом фразу со второй, нетрудно увидеть, что во второй из них речь идёт об условиях истинности высказывания о Смите и его действиях, тогда как в третьей — об условиях истинности высказывания о свидетеле и его действиях (или о том, что он видел). Таково единственное различие между этими двумя фразами: обе формулируют полные условия истинности для двух различных высказываний, заключённых в кавычки. Основное правило дачи свидетельских показаний требует, чтобы очевидцы события ограничивались в своих показаниях только тем, что они действительно видели. Соблюдение этого правила иногда может помочь судье отличить истинное свидетельство от ложного. Поэтому можно сказать, что, с точки зрения поиска истины и её обнаружения, третья фраза имеет некоторые преимущества по сравнению со второй. Однако для стоящих перед нами целей важно не смешивать вопрос реального поиска и обнаружения истины (то есть эпистемологический или методологический вопрос) с вопросом о том, что мы имеем в виду или что мы намереваемся сказать, когда говорим об истине или о соответствии фактам (логическая или онтологическая проблема истины). С точки зрения этого второго вопроса, третья набранная курсивом фраза не имеет никаких преимуществ по сравнению со второй. В каждой из этих фраз формулируются полные условия истинности входящих в них высказываний. Следовательно, во всех трёх случаях мы получаем совершенно одинаковый ответ на вопрос «Что есть истина?» Однако ответ этот даётся не прямо, а при помощи формулировки условий истинности некоторого высказывания, причём в каждой из рассматриваемых фраз эти условия формулируются для разных высказываний. 2. КритерииСамое существенное теперь — осознать и чётко провести следующее различение: одно дело — знать, какой смысл имеет термин «истина» или при каких условиях некоторое высказывание называется истинным, а другое дело — обладать средствами для разрешения, или критерием разрешения, вопроса об истинности или ложности того или иного высказывания. Рассмотрим такой пример. Мы вполне можем знать, что имеется в виду, когда речь идёт о «свежем мясе» или о «портящемся мясе», и в то же время, по крайней мере в некоторых случаях, можем совершенно не уметь отличить одно от другого. Именно это мы подразумеваем, когда говорим об отсутствии критерия доброкачественности мяса. Аналогичным образом каждый врач более или менее точно знает, что он понимает под словом «туберкулёз», но не всегда может распознать эту болезнь. И хотя вполне вероятно, что в наше время существует целая группа тестов, которые почти равносильны методу решения, или, иначе говоря, критерию для распознавания туберкулёза, шестьдесят лет назад такой группы тестов в распоряжении врачей, без сомнения, не было, и поэтому они не имели критерия для распознавания туберкулёза. Однако и в те времена врачи хорошо знали, что, употребляя термин «туберкулёз», они имеют в виду легочную инфекцию, вызываемую одним из видов микробов. По общему признанию критерий, то есть некоторый метод решения, если нам удаётся его получить, может сделать обсуждаемые нами проблемы более ясными, определёнными и точными. С этой точки зрения нетрудно понять, почему некоторые жаждущие точности люди требуют критериев. И в тех случаях, когда мы можем получить такие критерии, это требование представляется вполне разумным. Однако было бы ошибочным считать, что прежде чем мы получим критерий, позволяющий определить, болен человек туберкулёзом или нет, фраза «X болен туберкулёзом» бессмысленна; что прежде чем мы приобретем критерий доброкачественности или испорченности мяса, бессмысленно говорить о том, начал некоторый кусок мяса портиться или нет; что прежде чем мы будем иметь надёжный детектор лжи, мы не представляем, что же подразумевается, когда речь идёт о том, что X преднамеренно лжёт, и поэтому даже не должны рассматривать такую возможность, поскольку это вообще не возможность, а нечто бессмысленное; и, наконец, что прежде чем мы будем обладать критерием истинности, мы не узнаем, что же имеется в виду, когда речь идёт об истинности некоторого высказывания. Поэтому явно заблуждаются те, кто заявляет, что без критерия, то есть надёжного теста для распознавания туберкулёза, лжи или истины, нельзя выразить ничего определённого посредством слов «туберкулёз», «ложный» и «истинный». В действительности построение групп тестов для распознавания туберкулёза или выявления лжи происходит уже после установления, хотя бы приблизительного, того смысла, который вкладывается в термины «туберкулёз» или «ложь». Ясно, что в ходе разработки тестов для определения туберкулёза мы, без сомнения, способны узнать много нового об этой болезни. Приобретённые знания могут оказаться очень важными, и мы тогда будем вправе сказать, что под влиянием нового знания изменилось само значение термина «туберкулёз» и поэтому — после установления критерия — значение этого термина стало не таким, каким было прежде. Некоторые, вероятно, даже могут заявить, что термин «туберкулёз» теперь может определяться на основе такого критерия. Однако всё это не изменяет того факта, что и прежде мы вкладывали в этот термин некий смысл, хотя наши знания о данном предмете, конечно, могли быть значительно беднее. Предположим, что нет критерия, позволяющего нам отличить настоящую фунтовую банкноту от поддельной. Однако, если нам встретятся две банкноты с одинаковым серийным номером, то у нас будут достаточные основания заявить, что по крайней мере одна из них поддельная. Отсутствие критерия подлинности банкнот, очевидно, не лишает это утверждение смысла. Сказанное позволяет сделать вывод, что теория, согласно которой для определения смысла некоторого слова следует установить критерий правильного использования или применения его, ошибочна: на практике в нашем распоряжении никогда не бывает таких критериев. 3. Философия критериевОтвергнутый нами взгляд, в соответствии с которым только обладание определёнными критериями позволяет нам понять, что, собственно, мы имеем в виду, говоря о туберкулёзе, лжи или о существовании, значении, истине и тому подобном, явно или неявно лежит в основе многих философских учений. На мой взгляд, многие люди считают ответ на вопрос «Что есть истина?» невозможным главным образом в силу их стремления к обладанию критерием истины. На самом же деле отсутствие критерия истины не в большей степени лишает понятие истины смысла, чем отсутствие критерия здоровья делает бессмысленным понятие здоровья. Больной может жаждать здоровья, не имея его критерия. Заблуждающийся человек может жаждать истины, не обладая её критерием. Больной и заблуждающийся могут просто стремиться к здоровью или к истине, не слишком заботясь о точном значении этих терминов и, подобно другим людям, довольствуясь той степенью точности, которой достаточно для достижения их целей. Одним из непосредственных результатов предпринятого А. Тарским исследования понятия истины является следующая логическая теорема: универсальный критерий истины невозможен (исключением являются некоторые искусственные языковые системы, обладающие чрезвычайно бедными выразительными средствами). Названная теорема Тарского является весьма интересной и важной с философской точки зрения (особенно в связи с проблемой авторитарной теории познанияD. 4). Существенно, что этот результат был установлен при помощи понятия истины, для которого у нас нет критерия. Мы никогда не получили бы этот логический результат, представляющий большой философский интерес, если бы придерживались неразумного требования философии критериев, состоящего в том, что мы не должны серьёзно относиться к понятию до тех пор, пока не будет установлен критерий его использования. Между прочим, утверждение о невозможности универсального критерия истины является непосредственным следствием ещё более важного результата (полученного А. Тарским путём соединения теоремы К. Гёделя о неразрешимостиD. ah с его собственной теорией истины), согласно которому универсального критерия истины не может быть даже для относительно узкой области теории чисел, а значит — и для любой науки, использующей арифметику. 4. Учение о погрешимости знания (fallibilism)Упомянутые в конце предыдущего раздела логические результаты наглядно демонстрирует не только ошибочность некоторых все ещё модных форм скептицизма и релятивизма, но и их безнадёжную отсталость. В основе таких форм релятивизма лежит логическое недоразумение — смешение значения термина и критерия его правильного использования, хотя средства для устранения этого недоразумения доступны нам вот уже тридцать лет. Следует, однако, признать, что и в скептицизме, и в релятивизме имеется зерно истины — это отрицание существования универсального критерия истины. Это, конечно, не означает, что выбор между конкурирующими теориями произволен. Смысл отрицания существования универсального критерия истины предельно прост: мы всегда можем ошибиться при выборе теории — пройти мимо истины или не достигнуть её, иначе говоря — люди подвержены ошибкам, и достоверность не является прерогативой человечества (это относится и к знанию, обладающему высокой вероятностью, что я доказывал неоднократно) D. Сказанное, как мы хорошо знаем, — очевидная истина. В сфере человеческой деятельности имеется не так уж много областей, если они вообще есть, свободных от человеческой погрешимости. То, что в некоторый момент представляется нам твёрдо установленным и даже достоверным, в следующий миг может оказаться не совсем верным (а значит — ложным) и потребовать исправления. Весьма впечатляющим примером такой ситуации может служить открытие тяжёлой воды и тяжёлого водорода (дейтерия, впервые выделенного Гарольдом К. Юри в 1931 году). До этого открытия нельзя было вообразить в химии ничего более достоверного и точно установленного, чем наше знание о воде (Н2О) и тех элементах, из которых она состоит. Вода использовалась даже для «операционального» определения грамма — единого стандарта массы «абсолютной» метрической системы. Таким образом, при помощи воды определялась одна из основных единиц экспериментальных физических измерений. Это свидетельствует о том, что наше знание о воде считалось достаточно хорошо установленным для того, чтобы служить прочным основанием остальных физических измерений. Однако после открытия тяжёлой воды стало ясно, что вещество, представлявшееся до этого химически чистым, в действительности является смесью химически неразличимых, но физически существенно различных соединений. Эти соединения различаются удельным весом, точками кипения и замерзания, хотя ранее «вода» использовалась в качестве эталона для определения всех этих свойств. Этот исторический эпизод весьма характерен: он показывает, что мы не способны предвидеть, какие области нашего научного знания могут в один прекрасный день потерпеть фиаско. Поэтому вера в научную достоверность и в авторитет науки оказывается благодушным пожеланием: наука погрешила, ибо наука — дело рук человеческих. Однако концепция погрешимости (fallibility) знания или тезис, согласно которому всё наше знание состоит из догадок, хотя часть из них и выдержала самые суровые проверки, не должны использоваться в поддержку скептицизма или релятивизма. Из того факта, что мы можем заблуждаться, а критерия истинности, который уберег бы нас от ошибок, не существует, отнюдь не следует, что выбор между теориями произволен или нерационален, что мы не умеем учиться и не можем двигаться по направлению к истине, что наше знание не способно расти. 5. Учение о погрешимости и рост знанияПод «учением о погрешимости», или «фаллибилизмом» («fallibilism»), я понимаю концепцию, основывающуюся на признании двух фактов: во-первых, что мы не застрахованы от заблуждений и, во-вторых, что стремление к достоверности знания (или даже к его высокой вероятности) ошибочно. Отсюда, однако, не следует, что мы не должны стремиться к истине. Наоборот, понятие заблуждения подразумевает понятие истины как образца, которого мы, впрочем, можем и не достичь. Признание погрешимости знания означает, что хотя мы можем жаждать истины и даже способны обнаруживать её (я верю, что во многих случаях это нам удаётся), мы тем не менее никогда не можем быть уверены до конца, что действительно обладаем истиной. Всегда имеется возможность заблуждения, и только в случае некоторых логических и математических доказательств эта возможность столь незначительна, что ей можно пренебречь. Следует подчеркнуть, что учение о погрешимости не даёт никаких поводов для скептических или релятивистских заключений. Это фундаментальное положение действительно служит базисом всей эпистемологии и методологии. Оно указывает нам, как учиться систематически, как идти по пути прогресса быстрее (не обязательно в интересах техники — для каждого отдельного искателя истины нет проблемы неотложнее, чем ускорение своего собственного продвижения вперёд). Эта позиция, попросту говоря, заключается в том, что нам следует стремиться обнаруживать свои ошибки или, иначе, стараться критиковать свои теории. Критика, по всей вероятности, — это единственный доступный нам способ обнаружения наших ошибок и единственный систематический метод извлечения из них уроков. 6. Приближение к истинеЦентральное ядро всех наших рассуждений составляет идея роста знания или, иначе говоря, идея приближения к истине. Интуитивно эта идея так же проста и прозрачна, как и сама идея истины. Некоторое высказывание истинно, если оно соответствует фактам. Некоторое высказывание ближе к истине, чем другое высказывание, если оно полнее соответствует фактам, чем это второе высказывание. Идея приближения к истине достаточно интуитивно ясна, и вряд ли кто-либо из непричастных к науке людей или учёных сомневается в её законности. И всё же она, как и идея истины, была подвергнута критике некоторыми философами как незаконная (вспомним, к примеру, недавнюю критику этой идеи У. Куайном D. 7). В связи с этим следует отметить, что путём объединения двух введённых А. Тарским понятий — истины и содержания — мне недавно удалось дать «определение» понятия приближения к истине в чисто логических терминах теории Тарского. (Я просто объединил понятия истины и содержания и получил понятие истинного содержания высказывания а, то есть класса всех истинных высказываний, следующих из а, и его ложного содержания, которое можно приблизительно определить как содержание данного высказывания за вычетом его истинного содержания. Используя введённые понятия, можно сказать, что высказывание а ближе к истине, чем высказывание b, если и только если его истинное содержание превосходит истинное содержание b, тогда как ложное содержание а не превосходит ложного содержания b D. 8). Поэтому нет никаких оснований для скептического отношения к понятию приближения к истине и, соответственно, к идее прогресса знания. И хотя мы всегда можем ошибаться, однако во многих случаях, особенно тогда, когда проводятся решающие эксперименты, определяющие выбор одной из двух теорий, мы прекрасно осознаем, приблизились мы к истине или нет. Следует хорошо уяснить, что идея о том, что высказывание а может быть ближе к истине, чем некоторое другое высказывание b, ни в коем случае не противоречит идее, согласно которой каждое высказывание является либо истинным, либо ложным, и третьей возможности не дано. Идея близости к истине отражает только тот факт, что в ложном высказывании может заключаться значительная доля истины. Если, например, я говорю: «Сейчас половина четвёртого — слишком поздно, чтобы успеть на поезд в 3.35», то это высказывание может оказаться ложным, потому что я мог бы ещё успеть на поезд в 3.35, поскольку он, к примеру, опоздал на четыре минуты. Тем не менее в моём высказывании содержится значительная доля истины — истинной информации. Конечно, я бы мог сделать оговорку: «Если поезд в 3.35 не опоздает (что случается с ним весьма редко)» — и тем самым несколько обогатить истинное содержание моего высказывания, но вполне можно считать, что эта оговорка подразумевалась в первоначальном высказывании. (Однако и в этом случае моё высказывание всё равно может оказаться ложным, если, к примеру, в момент его произнесения было только 3.28, а не 3.30, хотя и тогда в нём содержалась бы значительная доля истины.) О теории, подобной теории Кеплера, которая описывает траектории планет с замечательной точностью, можно сказать, что она содержит значительную долю истинной информации, несмотря на то, что это — ложная теория, так как на самом деле имеют место отклонения от кеплеровских эллиптических орбит. Точно так же и теория Ньютона (хотя мы вправе считать её ложной) содержит, по нашим нынешним представлениям, чрезвычайно много истинной информации — значительно больше, чем теория Кеплера. Поэтому теория Ньютона представляет собой лучшее приближение, чем теория Кеплера, — она ближе к истине. Однако всё это ещё не делает её истинной. Теория может быть ближе к истине, чем другая теория, и всё же быть ложной. 7. АбсолютизмМногие подозрительно относятся к идее философского абсолютизма на том основании, что эта идея, как правило, сочетается с догматической и авторитарной претензией на обладание истиной или критерием истины. Вместе с тем существует и другая форма абсолютизма — абсолютизм концепции погрешимости, который решительно отвергает такие претензии. Согласно абсолютизму такого рода, по крайней мере наши ошибки являются абсолютными ошибками в том смысле, что если теория отклоняется от истины, то она — ложная теория, даже если она содержит ошибки менее грубые, чем ошибки другой теории. Поэтому понятия истины и отклонения от истины могут считаться абсолютными нормами для сторонников теории погрешимости. Абсолютизм такого рода совершенно свободен от упрека в приверженности к авторитарности и способен оказать огромную помощь при проведении серьёзной критической дискуссии. Конечно, он сам, в свою очередь, может быть подвергнут критике в полном соответствии с принципом: ничто не свободно от критики. Вместе с тем мне кажется маловероятным, что, по крайней мере в настоящее время, критика логической теории истины и теории приближения к истине может быть успешной. 8. Источники знанияПринцип «все открыто для критики» (из которого следует, что и само это утверждение не является исключением из этого принципа) ведёт к простому решению проблемы источников знания, как я пытался это показать в других работах D. 9. Решение это таково: любой «источник знания» — традиция, разум, воображение, наблюдение или что-либо иное — вполне приемлем и может быть полезен, но ни один из них не является авторитарным. Это отрицание авторитарности источников знания отводит им роль, в корне отличную от тех функций, которые им приписываются в эпистемологических учениях прошлого и настоящего. И такое отрицание авторитарности, подчеркнём, является неотъемлемой частью нашего критического подхода и теории погрешимости. Мы приветствуем любой источник знания, но ни одно высказывание, каков бы ни был его «источник», не исключено из сферы критики. В частности, традиция, к отрицанию которой склонялись и интеллектуалисты (Декарт), и эмпирики (Бэкон), с нашей точки зрения, вполне может считаться одним из наиболее важных «источников» знания. Действительно, ведь почти Всё, чему мы учимся (у старших, в школе, из книг и так далее), проистекает из традиции. Поэтому я считаю, что антитрадиционализм следует отбросить за его пустоту. Однако и традиционализм — подчёркивание авторитарности традиции — следует также отбросить, но не за пустоту, а за его ошибочность. Традиционализм такого рода ошибочен, как и любая другая эпистемология, признающая некоторый источник знания (скажем, интеллектуальную или чувственную интуицию) в качестве непреложного авторитета, гарантии или критерия истины. 9. Возможен ли критический метод?Если мы действительно отбрасываем любые претензии на авторитарность любого отдельного источника знания, то как же в таком случае можно осуществлять критику некоторой теории? Разве любая критика не отталкивается от некоторых предпосылок? Разве действенность критики не зависит от истинности таких предпосылок? И какой толк в критике теории, если эта критика необходимо оказывается необоснованной? Если же мы хотим показать, что она верна, разве не должны мы обосновать или оправдать её предпосылки? И разве не к объявленному мною невозможным обоснованию или оправданию любой предпосылки стремится каждый (хотя зачастую это ему и не удаётся)? И если такое обоснование невозможно, то не является ли тогда (действенная) критика также невозможной? Я считаю, что именно эта серия вопросов-возражений представляет собой главную преграду на пути (предварительного, пробного) принятия защищаемой мною точки зрения. Как показывают эти возражения, легко склониться к мнению, что в логическом отношении критический метод ничем не отличается от всех других методов. Если он, как и эти последние, не может функционировать без принятия предпосылок, то эти предпосылки следует обосновать и оправдать. Но как же тогда быть с основным принципом нашей концепции, согласно которому мы не в состоянии обосновать или оправдать достоверность и даже вероятность наших предпосылок, и вместе с тем мы вынуждены иметь дело с теориями, которые подлежат критике. Конечно, эти возражения весьма серьёзны. Они подчёркивают важность нашего принципа: ничто не свободно и не должно считаться свободным от критики — даже сам основной принцип критического метода. Таким образом, приведённые возражения содержат интересную и существенную критику моей точки зрения. Однако эту критику, в свою очередь, можно критиковать, и её можно опровергнуть. Отметим прежде всего то, что если бы мы даже присоединились к мнению о том, что любая критика отталкивается от некоторых предпосылок, то это ещё отнюдь не означает, что необходимым условием действенной критики является обоснование и оправдание принятых предпосылок. Эти предпосылки, к примеру, могут быть частью теории, против которой направлена критика. (В этом случае говорят об «имманентной критике».) Они также могут представлять собой предпосылки, которые хотя и не являются частью критикуемой теории, но могут считаться общепринятыми. В этом случае критика сводится к указанию на то, что критикуемая теория противоречит (чего её защитники не осознают) некоторым общепринятым взглядам. Такого рода критика, даже если она и не особенно убедительна, может представлять большую ценность, поскольку она способна вызвать у защитников критикуемой теории сомнение в общепринятых взглядах, что, в свою очередь, может привести к важным открытиям. (Интересным примером такой ситуации является история создания теории античастиц П. Дираком.) Предпосылки критики могут быть также органической частью конкурирующей теории (в этом случае мы имеем дело с «трансцендентной критикой» в противоположность «имманентной критике»). Среди предпосылок такого рода могут быть, например, гипотезы или догадки, которые можно критиковать и проверять независимо от исходной теории. В этом случае критика равносильна вызову первоначальной теории на проведение решающих экспериментов, которые позволили бы разрешить спор между двумя конкурирующими теориями. Все эти примеры показывают, что серьёзные возражения, выдвинутые против моей теории критики, основываются на несостоятельной догме, согласно которой «действенная» критика должна исходить из каким-либо образом обоснованных или оправданных предпосылок. Я же, со своей стороны, считаю возможным утверждать следующее. Критика, вообще говоря, может быть неверной, но тем не менее важной, открывающей новые перспективы и поэтому плодотворной. Доводы, выдвинутые для защиты от необоснованной критики, зачастую способны пролить новый свет на теорию и их можно использовать в качестве (предварительного) аргумента в пользу этой теории. О теории, которая таким образом способна защищаться от критики, вполне можно сказать, что её подкрепляют критические доводы. Итак, говоря в самом общем плане, мы теперь в состоянии установить, что действенная критика теории состоит в указании на неспособность теории решить те проблемы, для решения которых она первоначально предназначалась. Такой подход означает, что критика вовсе не обязательно зависит от некоторого конкретного набора предпосылок (то есть критика может быть «имманентной»), хотя вполне возможно, что её вызвали к жизни некоторые внешние для обсуждаемой теории (то есть «трансцендентные») предпосылки. 10. РешенияС точки зрения развиваемой нами концепции, окончательное обоснование или оправдание теории в общем случае находится вне сферы наших возможностей. И поэтому хотя критические доводы могут оказывать поддержку нашим теориям, эта поддержка никогда не является окончательной. Следовательно, нам надо тщательно размышлять, чтобы определить, достаточно ли сильны наши критические доводы для оправдания предварительного, или пробного, принятия данной теории. Иначе говоря, нам каждый раз заново приходится выяснять, дает ли данная критическая дискуссия достаточные основания предпочесть некоторую теорию её соперницам. В этом пункте в критический метод проникают принимаемые нами решения. Они всегда носят предварительный, или пробный, характер, и каждое такое решение открыто для критики. Такие решения следует отличать от того, что некоторые философы — иррационалисты, антирационалисты и экзистенциалисты — именуют «решением», или «прыжком в неизвестность». Эти философы, вероятно, под влиянием (опровергнутого нами в предыдущем разделе) аргумента о невозможности критики, которая не предполагала бы каких-нибудь первоначальных предпосылок, разработали теорию, согласно которой все наши теоретические построения должны основываться на некотором фундаментальном решении — на некотором прыжке в неизвестность. Оно должно быть таким решением, или прыжком, который мы выполняем, так сказать, с закрытыми глазами. Конечно, если мы ничего не можем «знать» без предпосылок, без предварительного принятия какой-либо фундаментальной установки, то такую установку нельзя принять на основе одного только знания. Поэтому принятие этой установки является результатом выбора, причём выбора рокового и практически непреложного, который можно совершить только вслепую, на основе инстинкта, случайно или с благословения Бога. Приведённое в предыдущем разделе опровержение возражений, выдвинутых против критического метода, показывает, что иррационалистический взгляд на принятие решений сильно преувеличивает и излишне драматизирует реальное положение дел. Без сомнения, принятие решения — необходимый компонент человеческой деятельности. Однако если наши решения не запрещают выслушивать приводимые доводы и прислушиваться к голосу разума, если они не запрещают учиться на собственных ошибках и выслушивать тех, кто может возражать против наших взглядов, то ничто не обязывает их быть окончательными. Это относится и к решению анализировать критику. (Следует отметить, что в своём решении отказаться от необратимого прыжка в неизвестность иррациональности рационализм оказывается не самодостаточным в смысле, определённом в настоящей книге (см. главу 24). Я полагаю, что кратко обрисованная мною критическая теория познания бросает свет на наиболее важные проблемы всех теорий познания: Как же случилось так, что мы знаем так много и так мало? Как же нам удаётся медленно вытаскивать себя из трясины незнания, так сказать, за волосы? Нам удаётся всё это благодаря выдвижению догадок и совершенствованию этих догадок посредством критики. 11. Социальные и политические проблемыТеория познания, кратко очерченная в предыдущих разделах настоящего «Дополнения», имеет, по моему мнению, важное значение для оценки современной социальной ситуации. Особенности этой ситуации во многом определяются упадком влияния авторитарной религии. Этот упадок привёл к широкому распространению релятивизма и нигилизма, к утрате всякой веры, даже веры в человеческий разум, и как следствие этого — к утрате веры людей в самих себя. Однако выдвинутые мною в этом «Дополнении» аргументы показывают, что нет никаких оснований для столь безнадёжных выводов. В действительности все релятивистские и нигилистские (да и экзистенциалистские) аргументы включают в себя ошибочные рассуждения. Кстати, уже сам факт использования ими рассуждений свидетельствует, что в этих философских учениях роль разума фактически признается, однако он не применяется в них должным образом. Пользуясь терминологией, принятой в такого рода философии, можно сказать, что её сторонникам не удалось понять «человеческой ситуации». В частности, они не смогли осмыслить способность человека расти как интеллектуально, так и морально. В качестве наглядной иллюстрации такого рода заблуждения и безнадёжных следствий, выведенных из неудовлетворительного понимания эпистемологической ситуации, я приведу отрывок из «Несвоевременных размышлений» Ф. Ницше (раздел 3 его эссе об А. Шопенгауэре): «Такова была первая опасность, в тени которой вырастал Шопенгауэр: одиночество. Вторая же называется: отчаяние в истине. Эта опасность сопровождает каждого мыслителя, путь которого исходит от кантонской философии, если только он сильный и цельный человек в своих страданиях и желаниях, а не дребезжащая мыслительно-счетная машина… Правда, мы всюду можем прочесть, что [влияние Канта]… вызвало революцию во всех областях духовной жизни; но я не могу поверить этому… Но как скоро Кант начнёт оказывать действительное влияние на массы, оно скажется в форме разъедающего и раздробляющего скептицизма и релятивизма; и лишь у самых деятельных и благородных умов… его место заступило бы то духовное потрясение и отчаяние во всякой истине, какое пережил, например, Генрих Клейст… «Недавно, — пишет он в своём захватывающем стиле, — я ознакомился с философией Канта и должен теперь сообщить тебе одну мысль из нее; ведь мне не нужно бояться, что она потрясет тебя так же глубоко, так же болезненно, как и меня. Мы не можем решить, есть ли то, что мы зовем истиной, подлинная истина или это только так нам кажется. Если верно последнее, то истина, которую мы здесь собираем, после нашей смерти не существует более, и всё наше стремление приобрести достояние, которое следовало бы за нами в могилу, тщетно. Если острие этой мысли не затронет твоего сердца, то улыбнись над другим человеком, который чувствует себя глубоко раненным в своём интимнейшем святилище. Моя единственная, моя высшая цель пала, и у меня нет другой» D. 10. Я согласен с Ницше, что слова Клейста волнуют. Я также согласен, что прочтение Клейстом кантовского учения о невозможности достижения знания вещей в себе достаточно искренне, хотя и расходится с намерениями самого Канта. Кант верил в возможности науки и в возможность достижения истины. (К принятию субъективизма, который Клейст правильно признал шокирующим, Канта привела только необходимость объяснения парадокса существования априорного естествознания.) К тому же отчаяние Клейста было, по крайней мере частично, результатом разочарования, вызванного осознанием упадка сверхоптимистической веры в простой критерий истины (типа самоочевидности). Однако, каковы бы ни были исторические источники этого философского отчаяния, оно не является неизбежным. Хотя истина и не открывается нам сама по себе (как представлялось сторонникам Декарта и Бэкона) и хотя достоверность может быть недостижима для нас, тем не менее положение человека по отношению к знанию далеко от навязываемой нам безнадёжности. Наоборот, оно весьма обнадёживающее: мы существуем, перед нами стоит наиболее трудная задача — познать прекрасный мир, в котором мы живём, и самих себя, и хотя мы подвержены ошибкам, мы тем не менее к нашему удивлению обнаруживаем, что наши силы познания практически адекватны стоящей перед нами задаче — и это больше, чем мы могли бы представить себе в самых необузданных наших мечтаниях. Мы действительно учимся на наших ошибках, пробуя и заблуждаясь. К тому же мы при этом узнаем, как мало мы знаем: всё это происходит точно так же, как при восхождении на вершину, когда каждый шаг вверх открывает новые перспективы в неизвестное, и перед нами раскрываются новые миры, о существовании которых мы в начале восхождения н не подозревали. Таким образом, мы можем учиться и мы способны расти в своём знании, даже если мы никогда не можем что-то познать, то есть знать наверняка. И пока мы способны учиться, нет никаких причин для отчаяния разума; поскольку же мы ничего не можем знать наверняка, нет никакой почвы для самодовольства и тщеславия по поводу роста нашего знания. Могут сказать, что изложенный нами новый путь познания слишком абстрактен и изощрен для того, чтобы возместить утрату авторитарной религии. Возможно, это так. Однако нам не следует недооценивать силу интеллекта и интеллектуалов. Именно интеллектуалы — «торговцы подержанными идеями», по меткому выражению Ф. Хайека, — распространяли релятивизм, нигилизм и интеллектуальное отчаяние. Почему же тогда некоторые другие — более просвещённые — интеллектуалы не могут преуспеть в распространении доброй вести, что нигилистический шум на самом деле возник из ничего? 12. Дуализм фактов и нормВ настоящей моей книге я говорил о дуализме фактов и решений и отмечал, следуя Л. Дж. Расселу (см. прим. 5 [3] к гл. 5), что этот дуализм можно описать как дуализм предложений (propositions) и предложений-проектов, или рекомендаций (proposals) D. ai. Использование такой терминологии имеет важное достоинство — оно помогает нам понять, что и предложения, фиксирующие факты, и предложения-проекты, предлагающие линии поведения, включая принципы и нормы политики, открыты для рациональной дискуссии. Более того, решение, скажем, о выборе принципа поведения, принятое после дискуссии по поводу некоторого предложения-проекта, вполне может носить пробный, предварительный характер и во многих отношениях может походить на решение принять (также в предварительном порядке) в качестве наилучшей из доступных нам гипотез некоторое предложение, фиксирующее факт. Вместе с тем между предложением и предложением-проектом имеется важное различие. Можно сказать, что предложение-проект некоторой линии поведения или нормы с целью принятия его после последующей дискуссии и решение о принятии этой линии поведения или нормы создают некоторую линию поведения или норму. Выдвижение же гипотезы, дискуссия по поводу неё и решение о её принятии или принятие некоторого предложения не создают в том же самом смысле факта. Именно это различие, как я теперь считаю, послужило основанием для высказанного мною ранее мнения о возможности выразить при помощи термина «решение» контраст между принятием линий поведения или норм и принятием фактов. Однако всё это было бы, несомненно, значительно понятнее, если бы вместо дуализма фактов и решений я говорил о дуализме фактов и линий поведения или о дуализме фактов и норм. Терминологические тонкости, однако, не должны оттеснять на второй план самое важное в данной ситуации, а именно — неустранимость указанного дуализма. Каковы бы ни были факты и каковы бы ни были нормы (к примеру, принципы нашего поведения), между ними следует провести границу и чётко осознать причины, обусловливающие несводимость норм к фактам. 13. Предложения-проекты и предложенияИтак, отношение между нормами и фактами явно асимметрично: решившись принять некоторое предложение-проект (хотя бы в предварительном порядке), мы создаём соответствующую норму (по крайней мере, в пробном порядке), тогда как, решив принять некоторое предложение, мы не создаём соответствующего факта. Асимметричность норм и фактов проявляется и в том, что нормы всегда относятся к фактам, а факты оцениваются согласно нормам, и эти отношения нельзя обратить. О любом встретившемся нам факте, и особенно о факте, который мы, возможно, способны изменить, можно поставить вопрос: согласуется ли он с некоторыми нормами или нет? Важно понять, что такой вопрос в корне отличается от вопроса о том, нравится ли нам этот факт. Конечно, зачастую нам приходится принимать нормы в соответствии со своими симпатиями и антипатиями. И хотя при выдвижении некоторой нормы наши симпатии и антипатии могут играть заметную роль, вынуждая нас принять или отвергнуть эту норму, однако, кроме таких норм, имеется, как правило, множество других норм, которые мы не принимаем, и вполне можно судить и оценивать факты согласно любой из них. Все это показывает, что отношение оценивания (некоторого неопределённого факта на основе некоторой принятой или отвергнутой нормы) с логической точки зрения совершенно отлично от личного психологического отношения (которое представляет собой не норму, а факт) — симпатии или антипатии — к интересующим нас факту или норме. К тому же наши симпатии и антипатии сами представляют собой факты, которые могут оцениваться точно так же, как и все другие факты. Аналогичным образом факт принятия или отбрасывания некоторой нормы некоторым лицом или обществом следует как факт отличать от любой нормы, включая и ту норму, которая принимается или отбрасывается. Поскольку акт принятия или отбрасывания нормы представляет собой факт (и к тому же изменяемый факт), его можно судить и оценивать с точки зрения некоторых (других) норм. Таковы основные причины, которые требуют чёткого и решительного различения норм и фактов и, следовательно, предложений-проектов и предложений. И поскольку такое различение проведено, мы можем теперь рассмотреть не только различие, но и сходство фактов и норм. Предложения-проекты и предложения, во-первых, сходны в том, что мы можем дискутировать по поводу них, критиковать их и принимать относительно них некоторые решения. Во-вторых, и к тем, и к другим относятся некоторого рода регулятивные идеи. В мире фактов такой регулятивной идеей является идея соответствия между высказыванием или предложением и фактом, то есть идея «истины». В мире норм или предложений-проектов соответствующую регулятивную идею можно описать разными способами и назвать различными именами, к примеру «справедливостью» или «добром». По поводу некоторого предложения-проекта можно сказать, что оно является справедливым (или несправедливым) или добрым (или злым). И при этом мы имеем в виду, что оно соответствует (или не соответствует) некоторым нормам, которые мы решили принять. Однако и по поводу некоторой нормы можно сказать, что она является справедливой или несправедливой, доброй или злой, верной или неверной, достойной или недостойной, и при этом мы вполне можем иметь в виду то, что соответствующее предложение-проект следует (или не следует) принимать. Приходится, следовательно, признать, что логическая ситуация в сфере «справедливости» или «добра» как регулятивных идей значительно запутаннее, чем в сфере идеи «истины» — соответствия предложений фактам. Как указывалось в настоящей книге, эта трудность носит логический характер и её нельзя устранить при помощи введения какой-либо религиозной системы норм. Тот факт, что Бог или любой другой авторитет велит мне делать нечто, не гарантирует сам по себе справедливости этого веления. Только я сам должен решить, считать ли мне нормы, установленные каким-либо (моральным) авторитетом, добром или злом. Бог добр, только если его веления добры, и было бы серьёзной ошибкой — фактически неморальным принятием авторитаризма — говорить, что его веления добры просто потому, что это — его веления. Конечно, сказанное верно лишь в том случае, если мы заранее не решили (на свой собственный страх и риск), что Бог может повелевать нам только справедливое и доброе. И именно в этом состоит кантовская идея автономии в противоположность идее Гетерономии. Таким образом, никакое обращение к авторитету и даже к религиозному авторитету не может избавить нас от указанной трудности: регулятивная идея абсолютной «справедливости» и абсолютного «добра» по своему логическому статусу отличается от регулятивной идеи «абсолютной истины», и нам ничего не остаётся делать, как примириться с этим различием. Именно это различие обусловливает отмеченный нами ранее факт — в некотором смысле мы создаём наши нормы, проектируя, обсуждая и принимая их. Нам приходится мириться с таким положением дел в мире норм. Вместе с тем мы можем использовать идею абсолютной истины как соответствия фактам в качестве своего рода образца для мира норм. И нам это нужно для того, чтобы понять, что точно так же, как и в мире фактов, мы можем стремиться к абсолютно справедливым или абсолютно верным нормативным предположениям или, может быть, лучше было бы сказать — к более верным предложениям-проектам. Распространение такого подхода с процесса поиска на его результат — обнаружение — представляется мне ошибочным. Конечно, следует искать абсолютно справедливые или абсолютно верные предложения-проекты, но никогда не следует убеждать себя, что нам действительно удалось обнаружить их. Очевидно, что критерий абсолютной справедливости невозможен ещё в большей степени, чем критерий абсолютной истины. Можно, конечно, в качестве такого критерия попытаться рассматривать максимизацию счастья. Но я никогда не рекомендовал бы принять в качестве такого критерия минимизацию нищеты, хотя я думаю, что такой критерий был бы усовершенствованием некоторых идей утилитаризма. Я также высказывал мысль о том, что уменьшение нищеты, которой в принципе можно избежать, является задачей общественной политической деятельности (это, конечно, не означает, что любой вопрос общественной политической деятельности следует решать при помощи исчисления минимизации нищеты), тогда как максимизация счастья должна быть предоставлена заботам самого индивида. (Я совершенно согласен с теми моими критиками, которые показали, что при использовании в качестве критерия принцип минимума нищеты приводит к абсурдным следствиям, и я полагаю, что то же самое можно сказать о любом другом моральном критерии.) Таким образом, хотя в нашем распоряжении нет критерия абсолютной справедливости, тем не менее и в этой области вполне возможен прогресс. Здесь, как и в области фактов, перед нами широкий простор для открытий. К таким открытиям принадлежит, например, понимание того, что жестокость всегда несправедлива и её по мере возможности следует избегать; что «золотое правило» — хорошая корма, которую, пожалуй, можно даже улучшить, если наши действия по возможности будут совпадать с желаниями других. Все это элементарные, но тем не менее чрезвычайно важные примеры открытий, совершенных в мире норм. Эти открытия создают нормы, можно сказать, из ничего. Здесь, как и при открытии фактов, нам приходится, так сказать, самим вытягивать себя за волосы. Совершенно удивительным фактом является то, что мы умеем учиться — на наших ошибках и в результате их критики, и тем более удивительно, что мы не утрачиваем этой способности, переходя из мира фактов в мир норм. 14. Два заблуждения не равносильны двум правдамС принятием абсолютной теории истины становится возможным ответить на старый и серьёзный, но тем не менее вводящий в заблуждение аргумент в пользу релятивизма как интеллектуалистского, так и оценочного типа. Этот аргумент заключается в проведении аналогии между истинными фактами и верными нормами и обращает внимание на то, что идеи и убеждения у других людей значительно отличаются от наших. Кто же мы такие, чтобы настаивать на своей правоте? Уже Ксенофан 2500 лет тому назад пел так:
Если быки, или львы, или кони имели бы руки, Или руками могли рисовать и ваять, как и люди, Боги тогда б у коней с конями схожими были, А у быков непременно быков бы имели обличье; Словом, тогда походили бы боги на тех, кто их создал D. 11. Да, каждый из нас видит своих богов и свой мир со своей собственной точки зрения, согласно традициям своего общества и полученному воспитанию. И никто из нас не свободен от субъективных пристрастий. Указанный аргумент развивался в различных направлениях. Доказывали, например, что наша раса, национальность, наше историческое происхождение, наше историческое время, наш классовый интерес или социальное происхождение, наш язык или индивидуальное исходное знание представляют собой непреодолимый или почти непреодолимый барьер для объективности. Несомненно, факты, на которых основывается этот аргумент, следует признать: действительно, мы не можем избавиться от пристрастий. Однако нет никакой необходимости принимать сам этот аргумент и тем более релятивистские следствия из него. Во-первых, мы можем постепенно избавляться от части наших пристрастий, критически мысля сами и прислушиваясь к критике других. К примеру, Ксенофану его собственное открытие, без сомнения, помогло увидеть мир в менее пристрастном ракурсе. Во-вторых, фактом является то, что люди с крайне различными культурными предпосылками могут вступать в плодотворную дискуссию при условии, что они заинтересованы в приближении к истине и готовы выслушивать друг друга и учиться друг у друга. Все это показывает, что культурные и языковые барьеры не являются непреодолимыми. Таким образом, очень важно извлечь максимальную пользу из открытия Ксенофана, для чего следует отбросить всякую самоуверенность и открыть свой взор для критики. При этом чрезвычайно важно не перепутать это открытие, этот шаг по направлению к критическому методу с продвижением по пути к релятивизму. Если две спорящие стороны не согласны друг с другом, то это может означать, что не права одна из сторон, или другая, или обе. Такова позиция сторонников критического метода. Это ни в коем случае не означает, как думают релятивисты, что обе стороны могут быть в равной степени правыми. Они, без сомнения, могут в равной степени заблуждаться, хотя такая ситуация не является необходимой. Поэтому любой, кто утверждает, что, если спорящие стороны в равной степени заблуждаются, то это означает, что они в равной степени правы, на самом деле только играет словами или пользуется метафорами. Научиться самокритичному отношению, научиться думать, что наши оппоненты могут быть правы, даже в большей степени, чем мы сами, — это великий шаг вперёд. Однако в нём скрыта огромная опасность. Мы можем вообразить, что возможна такая ситуация, когда и наш оппонент, и мы сами одновременно правы. Такая установка, на первый взгляд, скромная и самокритичная, на самом деле не является ни столь скромной, ни столь самокритичной, как мы склонны это себе представлять. Значительно более вероятно, что и мы сами, и наш оппонент заблуждаемся. Таким образом, самокритика не должна быть оправданием лени и принятия релятивизма. И как злом не исправишь зло и не создашь добро, так и в споре две заблуждающиеся стороны не могут быть обе правыми. 15. «Опыт» и «интуиция» как источники знанияНаша способность учиться на своих ошибках и извлекать уроки из критики в мире норм, как и в мире фактов, имеет непреходящее значение. Однако достаточно ли нам только опоры на критику? Не следует ли вдобавок опереться на авторитет опыта или (особенно в мире норм) на авторитет интуиции? В мире фактов мы не просто критикуем наши теории, мы критикуем их, опираясь на опыт экспериментов и наблюдений. Однако было бы серьёзной ошибкой верить в то, что при этом мы можем опереться на некий авторитет опыта, хотя некоторые философы, особенно эмпирики, считают чувственное и прежде всего зрительное восприятие источником знания, который обеспечивает нас вполне определёнными «данными», из которых состоит опыт. Я считаю, что такая картина познания совершенно ошибочна. Даже наш опыт, получаемый из экспериментов и наблюдений, не состоит из «данных». Скорее он состоит из сплетения догадок — предположений, ожиданий, гипотез и тому подобное, — с которыми связаны принятые нами традиционные научные и ненаучные знания и предрассудки. Такого явления, как чистый опыт, полученный в результате эксперимента или наблюдения, просто не существует. Нет опыта, не содержащего соответствующих ожиданий и теорий. Нет никаких чистых «данных» и эмпирических «источников знания», на которые мы могли бы опереться при проведении нашей критики. «Опыт» — обыденный, как и научный — значительно больше похож на то, что имел в виду О. Уайлд в «Веере леди Уиндермир» (действие III) D. 12:
Сесил Грэхем: Не надо их совершать. Дамби: Без них жизнь была бы не жизнь, а сплошная скука. Обучение на ошибках, без которого жизнь действительно была бы скучной, — именно такой смысл вкладывается в термин «опыт» в известной шутке доктора С. Джонсона о «триумфе надежды над опытом» и в замечании Ч. Кинга: «Британским лидерам следовало бы поучиться в… единственной школе, где учат дураков, — в школе опыта» D. 13. Таким образом, мне кажется, что по крайней мере некоторые из обычных способов употребления термина «опыт» значительно лучше согласуются с тем, что, по моему мнению, является характерной чертой как «научного опыта», так и «обыденного эмпирического знания», чем с традиционными способами анализа этого термина, бытующими у философов эмпиристской школы. К тому же сказанное, по-видимому, согласуется и с первоначальным значением термина «empeiria» (от «peirao» — стараться, проверять, исследовать) и, следовательно, терминов «experientia» и «experimentum». Проведённое рассуждение не следует рассматривать в качестве аргумента, основанного на обыденных способах употребления термина «опыт» или на его происхождении. При помощи соответствующих ссылок я лишь намеревался проиллюстрировать предпринятый мною логический анализ структуры опыта. Следуя такому анализу, опыт, особенно научный опыт, можно представить как результат ошибочных, как правило, догадок, их проверки и обучения на основе наших ошибок. Опыт в таком смысле не является «источником знания» и не обладает какой-либо авторитарностью. При таком понимании опыта критика, опирающаяся на опыт, не имеет значения непреложного авторитета. В сферу её компетенции не входит сопоставление сомнительных результатов с твёрдо установленными результатами или со «свидетельствами наших органов чувств» («данными»). Такая критика, скорее, заключается в сравнении некоторых сомнительных результатов с другими, зачастую столь же сомнительными, которые могут, однако, для нужд данного момента быть приняты в качестве достоверных. Вместе с тем такие принимаемые за достоверные знания также могут быть подвергнуты критике, как только возникнут какие-либо сомнения в их достоверности или появится какое-то новое представление или предположение, например, предположение о том, что определённый эксперимент может привести к новому открытию. Теперь я могу сказать, что процесс получения знаний о нормах представляется мне полностью аналогичным только что описанному процессу получения знаний о фактах. В мире норм философы издавна стремились обнаружить авторитарные источники знания. При этом они в основном находили два таких источника: во-первых, чувство удовольствия и страдания, моральное чувство или моральную интуицию в отношении добра и зла (аналогичные восприятию в эпистемологии фактуального знания) и, во-вторых, источник, обычно называемый «практическим разумом» (аналогичный «чистому разуму», или способности «интеллектуальной интуиции», в эпистемологии фактуального знания). Вокруг вопроса о том, существуют ли все названные или только некоторые из таких авторитарных источников морального знания, постоянно бушевали неутихающие споры. Я думаю, что всё это не что иное, как псевдопроблема. Дело заключается вовсе не в вопросе о «существовании» какой-либо из таких способностей (это тёмный и весьма сомнительный психологический вопрос), а в том, могут ли они быть авторитарными «источниками знания», обеспечивающими нас «данными» или другими отправными точками для наших построений, или, по крайней мере, могут ли они быть точной системой отсчёта для нашей критики. Я решительно отрицаю существование каких-либо авторитарных источников такого рода как в эпистемологии фактуального знания, так и в эпистемологии знания о нормах. И я также отрицаю необходимость любой такой системы отсчёта для проводимой нами критики. Как же мы приобретаем знание о нормах? Как в этой области нам удаётся учиться на ошибках? Вначале мы учимся подражать другим (между прочим, это мы делаем путём проб и ошибок) и при этом учимся взирать на нормы поведения, как если бы они состояли из фиксированных «данных» правил. Впоследствии мы обнаруживаем (также при помощи проб и ошибок), что мы продолжаем заблуждаться, например причинять вред людям. При этом мы можем узнать о «золотом правиле». Затем обнаруживается, что мы зачастую можем неправильно судить о позиции другого человека, о запасе его знаний, о его целях и нормах. И наши ошибки могут научить нас заботиться о людях даже в большей степени, чем этого требует от нас «золотое правило». Без сомнения, такие явления, как сочувствие и воображение, могут играть важную роль в этом развитии, но и они, точно так же, как и любой из наших источников знания в мире фактов, не являются непреложными авторитетами. Аналогичным образом, несмотря на то, что нечто подобное интуиции добра и зла вполне может играть существенную роль в этом развитии, оно равным образом не является авторитарным источником знания. Это происходит потому, что сегодня мы можем быть уверены в своей правоте, а завтра вдруг обнаружить, что ошибались. «Интуитивизм» — таково название философской школы, которая учит, что у нас имеется некоторая особая способность интеллектуальной интуиции, позволяющая «видеть» истину. В результате всё, что представляется нам истинным, и на самом деле оказывается истинным. Таким образом, интуитивизм является теорией некоторого авторитарного источника знания. Антиинтуитивисты обычно отрицают существование этого источника знания, но в то же время они, как правило, утверждают существование другого источника, например чувственного восприятия. С моей точки зрения, ошибаются обе стороны, и причём по двум причинам. Во-первых, я согласен с интуитивистами в том, что существует нечто вроде интеллектуальной интуиции, которая наиболее убедительно даёт нам почувствовать, что мы видим истину (это решительно отвергается противниками интуитивизма). Во-вторых, я утверждаю, что интеллектуальная интуиция, хотя она в некотором смысле и является нашим неизбежным спутником, зачастую сбивает нас с истинного пути, и эти блуждания представляют собой серьёзную опасность. В общем случае мы не видим истину тогда, когда нам наиболее ясно кажется, что мы видим её. И только ошибки могут научить нас не доверять нашей интуиции. Во что же тогда нам следует верить? Что же всё-таки нам следует принять? Ответ на эти вопросы таков: во-первых, в то, что мы принимаем, верить следует только в пробном, предварительном порядке, всегда помня, что в лучшем случае мы обладаем только частью истины (или справедливости) и по самой нашей природе вынуждены совершать, по крайней мере, некоторые ошибки и выносить неверные суждения. Это относится не только к фактам, но и к принимаемым нами нормам. Во-вторых, мы можем верить в интуицию (даже в пробном порядке) только в том случае, если мы пришли к ней в результате многих испытаний нашего воображения, многих ошибок, многих проверок, многих сомнений и долгих поисков возможных путей критики. Нетрудно заметить, что эта форма антиинтуитивизма (или, как могут сказать некоторые, интуитивизма) радикально отличается от до сих пор существовавших форм антиинтуитивизма. Не составляет труда понять, что в этой теории имеется один существеннейший компонент, а именно — идея, согласно которой мы можем не достигнуть (и, пожалуй, так будет всегда) некоторой нормы абсолютной истины или абсолютной справедливости — как в наших мнениях, так и в наших действиях. На всё сказанное можно, конечно, возразить, что, независимо от вопроса о приемлемости или неприемлемости моих взглядов на природу этического знания и этического опыта, эти взгляды всё же оказываются «релятивистскими», или «субъективистскими». Поводом для такого обвинения служит то, что я не устанавливаю каких-либо абсолютных моральных норм, а в лучшем случае только показываю, что идея абсолютной нормы является некоторой регулятивной идеей, полезной лишь для того, кто уже обращён в нашу веру, кто уже жаждет искать и открывать истинные, верные или добрые моральные нормы. Мой ответ на это возражение таков: даже «установление», скажем, с помощью чистой логики, абсолютной нормы или системы этических норм не принесло бы в этом отношении ничего нового. Предположим на минуту, что мы настолько преуспели в логическом доказательстве верности некоторой абсолютной нормы или системы этических норм, что для определённого субъекта можем чисто логически, вывести, каким образом он должен действовать. Однако даже в таком случае этот субъект может не обращать на нас никакого внимания или, к примеру, ответить: «Ваше должен и ваши моральные правила — всё это интересует меня не более, чем ваши логические доказательства или, скажем, ваша изощрённая математика». Таким образом, даже логическое доказательство не может изменить описанную нами принципиальную ситуацию: наши этические или любые другие аргументы могут произвести впечатление только на того, кто готов принять рассматриваемый предмет всерьёз и жаждет что-либо узнать о нём. Одними аргументами вы не сможете никого принудить принимать эти аргументы серьёзно или заставить уважать свой собственный разум. 16. Дуализм фактов и норм и идея либерализмаПо моему глубокому убеждению, учение о дуализме фактов и норм — это одна из основ либеральной традиции. Дело в том, что неотъемлемой частью этой традиции является признание реального существования в нашем мире несправедливости и решимость пытаться помочь её жертвам. Это означает, что имеется (или возможен) конфликт (или, по крайней мере, разрыв) между фактами и нормами. Факты могут отклоняться от справедливых (верных или истинных) норм, особенно те социальные и политические факты, которые связаны с принятием и проведением в жизнь сводов законов. Иначе говоря, либерализм основывается на дуализме фактов и норм в том смысле, что его сторонники всегда стремятся к поиску все лучших норм, особенно в сфере политики и законодательства. Однако такой дуализм фактов и норм был отвергнут некоторыми релятивистами, которые противопоставили ему следующие аргументы:
Я считаю, что заключение [5] является ошибочным. Оно не следует из посылок [1] — [4], истинность которых я признаю. Причины отказа от [5] очень просты: мы всегда можем спросить, является ли некоторое событие — то или иное социальное движение, основанное на принятии соответствующей программы реформ определённых норм, «хорошим» или «плохим». Постановка же этого вопроса вновь раскрывает пропасть между фактами и нормами, которую релятивисты пытались заполнить при помощи монистического рассуждения [1] — [5]. Из сказанного можно с полным основанием заключить, что монистическая позиция — философия тождества фактов и норм — весьма опасна. Даже там, где она не отождествляет нормы с существующими фактами, и даже там, где она не отождествляет существующую сегодня силу (власть) с правом, она тем не менее неизбежно ведёт к отождествлению будущей власти и права. Поскольку, по мнению мониста, вопрос о справедливости или несправедливости (правоте или неправоте) некоторого движения за реформы вообще нельзя поставить, если не встать на точку зрения какого-либо другого движения с противоположными тенденциями, то всё, что мы можем спросить в данной ситуации, сводится к тому, какое из этих противоположных движений в конечном счёте добилось успеха в деле превращения своих норм в социальные, политические или исторические факты. Другими словами, охарактеризованная нами философия, представляющая собой попытку преодоления дуализма фактов и норм и построения некоторой монистической системы, создающей мир из одних только фактов, ведёт к отождествлению норм или с властвующей ныне, или с будущей силой. Эта философия неизбежно приводит к моральному позитивизму или моральному историцизму, как они были описаны мною в главе 22 настоящей книги. 17. И снова ГегельМою главу о Гегеле в «Открытом обществе» много критиковали. Большую часть критики я не могу принять, потому что она бьет мимо моих главных возражений против философии Гегеля. Эти возражения состоят в том, что его философия, если сравнить её с философией Канта (я даже считаю почти кощунственным ставить эти имена рядом), служит примером кошмарного упадка в интеллектуальной искренности и интеллектуальной честности, что его философские аргументы не следует принимать всерьёз и что его философия была главным фактором, породившим «век интеллектуальной нечестности», как назвал его Артур Шопенгауэр, и подготовившим то современное trahison des clercsdaj (я имею в виду великую книгу Жюльена Бенда), которое помогло столь далеко зайти в двух мировых войнах. Не следует забывать, что я рассматриваю мою книгу «Открытое общество и его враги» как мой вклад в военные действия. Будучи действительно убеждён в ответственности Гегеля и гегельянцев за большую часть случившегося в Германии, я чувствовал, что я, как философ, был обязан разоблачить псевдофилософский характер этой философии. Время создания этой книги может, пожалуй, объяснить и моё оптимистическое допущение (которое я могу отнести к влиянию на меня А. Шопенгауэра), согласно которому суровые реальности войны должны разоблачить действительное содержание таких игр интеллектуалов, как релятивизм, и что это словесное привидение вскоре рассеется. Я определённо был настроен слишком оптимистично. В действительности, большинство критиков моей книги, по-видимому, настолько бессознательно принимают некоторую форму релятивизма, что они оказались совершенно неспособны поверить в серьёзность моего отрицания его. Я согласен с тем, что я сделал несколько фактических ошибок. Господин Г. Родмен из Гарвардского университета сообщил мне, что я ошибся, написав в одном месте «два года», а должен был написать «четыре года». Он также сообщил, что, по его мнению, в этой главе есть некоторое число более серьёзных — но менее очевидных — исторических ошибок и что некоторые из моих попыток выявить скрытые мотивы деятельности Гегеля, по его мнению, исторически неоправданны. Об этом следует, конечно, пожалеть, хотя такие ошибки случаются и у лучших, чем я, историков. Однако действительно важный вопрос состоит в следующем: влияют ли эти ошибки на мою оценку гегелевской философии и её ужасного воздействия на последующую философию? Мой ответ на этот вопрос: «Нет». Именно философия привела меня к изложенному взгляду на Гегеля, а вовсе не биография. Я, кстати, до сих пор удивляюсь, что серьёзные философы были оскорблены моей явно частично шутливой атакой на философию, которую я не принимал всерьёз. Я пытался выразить это в шутливом стиле моей главы о Гегеле, надеясь этим показать всю неуклюжесть его философии, которую я могу воспринимать только со смесью презрения и ужаса. На всё это было ясно указано в моей книге D. 14. В ней также обращено внимание на тот факт, что я и не мог, и не желал тратить неограниченное время на глубокие исследования по истории философа — к такой работе я отношусь весьма отрицательно. Поэтому я и писал о Гегеле в такой манере, которая предполагала, что немногие могут воспринимать Гегеля всерьёз. Хотя эта манера не была замечена критиками-гегельянцами, которые были определённо не довольны, я все ещё надеюсь, что некоторые из моих читателей поняли шутку. Однако всё это сравнительно несущественно. А вот что может оказаться существенным, так это вопрос о том, действительно ли оправданно моё отношение к философии Гегеля. Я хотел бы теперь попытаться дать ответ именно на этот вопрос. Я полагаю, что большинство гегельянцев признают, что к числу основных мотивов и намерений философии Гегеля принадлежит стремление заменить и «превзойти» дуалистический взгляд на факты и нормы, который был разработан Кантом и который составил философское основание идей либерализма и социального реформирования. Упразднение этого дуализма фактов и норм и есть главная цель гегелевской философии тождества — тождества идеального и реального, права и силы. Все нормы историчны, они представляют собой историческими факты, стадии в развитии разума, одинаковые для развития и идеального, и реального. Нет ничего, кроме фактов, и при этом некоторые из социальных и исторических фактов оказываются нормами. Гегелевское рассуждение в основном совпадает с тем рассуждением, которое я изложил (и критиковал) в предшествующем разделе. Правда, сам Гегель преподносит его в чрезвычайно смутной, неясной и лицемерной форме. К тому же я твёрдо заявляю, что гегелевская философия тождества (несмотря на некоторые «прогрессистские» предложения и некоторые содержащиеся в ней умеренные изъявления симпатии к различным «прогрессивным» движениям) играла наиболее важную роль в упадке либерального движения в Германии, того самого движения, которое под влиянием кантовской философии породило таких крупных либеральных мыслителей, как Фридрих Шиллер и Вильгельм фон Гумбольдт и такие важные работы, как гумбольдтовский «Опыт определения границ государственной власти». Это моё первое и основное обвинение. Моё второе обвинение, тесно связанное с первым, состоит в том, что, поддерживая историцизм и отождествление силы и права, гегелевская философия тождества вдохновляла тоталитарные формы мышления. Моё третье обвинение состоит в том, что рассуждения Гегеля (которые явно потребовали от него определённой степени изощрённости, хотя и не большей, чем можно ожидать от философа) содержали множество логических ошибок и трюков, преподнесенных с претенциозным величием. Это подорвало и неизбежно снизило традиционные нормы интеллектуальной ответственности и честности. Это также внесло вклад в подъём тоталитарного философствования и, что ещё более серьёзно, в недостаток сколько-нибудь чётко выраженного интеллектуального сопротивления ему. Таковы мои главные возражения против философии Гегеля. На мой взгляд, они достаточно ясно сформулированы в главе 12. Однако я, безусловно, не проанализировал главный вопрос — философию тождества фактов и норм — так чётко, как я должен был это сделать. Поэтому я надеюсь, что в этом «Дополнении» я загладил свою вину — не по отношению к Гегелю, а по отношению к тем, кому он мог причинить вред. 18. ЗаключениеЗаканчивая, я, как никогда, осознаю все недостатки моей книги. Частично они вызваны широтой охвата материала, далеко выходящего за пределы тех проблем, которые я с каким-либо основанием могу считать объектами своего профессионального интереса. Частью эти недостатки являются просто следствием моей личной погрешимости, ведь я недаром считаю себя сторонником теории погрешимости, то есть фаллибилистом. Однако, несмотря на полное осознание своей личной погрешимости и даже степени её влияния на то, что я собираюсь сказать сейчас, я действительно верю в плодотворность подхода, предлагаемого теорией погрешимости для философского исследования социальных проблем. Действительно, как признание принципиально критического и, следовательно, революционного характера человеческого мышления, то есть того факта, что мы учимся на ошибках, а не посредством накопления данных, так и понимание того, что почти все проблемы и все (неавторитарные) источники нашего мышления коренятся в традиции, и именно традиция является объектом нашей критики, — всё это позволяет критическому (и прогрессивному) учению о погрешимости открыть нам столь насущную перспективу для оценки как традиции, так и революционной мысли. И это учение, что ещё важнее, показывает, что роль мышления заключается в проведении революций путём критических споров, а не при помощи насилия и войн, что битва слов, а не мечей, является замечательной традицией западного рационализма. Именно поэтому наша западная цивилизация по своему существу является плюралистической, а монолитное социальное состояние означает гибель свободы — свободы мысли, свободы поиска истины, а вместе с ними рациональности и достоинства человека. |
КРИТИКА РЕЛЯТИВИЗМА В УЧЕНИЯХ ОБ ИДЕАЛЬНОМ ПЛАТОНА И Э. В. ИЛЬЕНКОВА
[2] В современном платоноведении есть «драматическая школа», которая придает особое значение художественной форме платоновских диалогов, и с ее точки зрения эта процедура выглядит спорно. Но мы сейчас не будем вдаваться в тонкости платоноведения и возьмем лишь «логический скелет» произведения Платона.
Суть ее сводится к следующему. Взгляд на имеющиеся у нас мнения как на универсальные истины наивен и не выдерживает критики. Всякое знание основано на ощущениях, однако ощущения принадлежат конкретным людям: у одних людей они такие, а у других – иные. Скажем, мерзнущему кажется, что дующий ветер холодный, а немерзнущему – что теплый. Наивные догматики, считающие, что они располагают общезначимой истиной, думают, что первый заблуждается, а второй прав. Но из самих ощущений невозможно сделать подобный вывод: ощущения мерзнущего пусть и неприятнее, но не менее истинны, чем ощущения немерзнущего. Итак, по Протагору, каждый по-своему прав: «поверим Протагору, что для мерзнущего он холодный, а для немерзнущего – нет» [7, с. 204]. «Мера вещей человек» – провозглашает отец софистики, а отсюда очевидно, что «для каждого истинно то, что он представляет себе на основании своего ощущения» [7, с. 215]. Из этого легко сделать вывод, что не существует красоты как таковой, ведь одному женщина или ваза кажутся красивыми, а другому – нет; нет и справедливости как таковой, ведь то, что в одной стране или в одно время считается справедливым, в другой стране и в другое время таковым не считается. Вместо устойчивых ценностей мы получаем текучее марево мнений. В итоге мы не сможем даже толком что-либо сказать: «нам и остается быть связанными друг с другом так, что если кто скажет “нечто есть”, то он должен добавить, для чего “есть”, от чего “есть” и в отношении к чему “есть”, и то же самое, если он говорит “становится”. Само же по себе что-то существующее или становящееся ни сам он не должен называть, ни другому позволять это делать – так требует рассуждение, которое мы разобрали» [7, с. 214].
Но дело не только в том, что людей много и ощущения у них разные. Даже если взять одного человека, то всё равно мы сталкиваемся с большой трудностью. Ощущения нам открывают мир вещей, которые находятся в движении и становлении, и который в том виде, в котором он нам предстает, существует лишь по отношению к нам. Поэтому говорить о независимом, объективном существовании этого мира не приходится: «ничто не есть само по себе, но всё всегда возникает в связи с чем-то, а понятие “существовать” нужно отовсюду изъять, хотя еще недавно мы вынуждены были им пользоваться по привычке и по невежеству» [7, с. 210] – заявляет Сократ. Мы, воспринимая мир, как бы выхватываем на мгновение какой-либо один предмет и обозначаем его неизменным словом, а потом употребляем это слово, потому что думаем, что перед нами та же самая вещь. Однако и вещь сразу же изменилась, и мы сами, так что неизменный мир, бытие, существует лишь в мире слов, или, как мы бы сейчас сказали, лишь в нашем сознании. Платоновский Сократ предупреждает: «В согласии с природой вещей должно обозначать их в становлении, созидании, гибели и изменчивости. Поэтому если бы кто-то вздумал остановить что-либо с помощью слова, он тотчас же был бы изобличен» [7, с. 210].
Итак, объективный мир, открывающийся нам через органы чувств, текуч и изменчив, подобен Гераклитовой реке. О нем невозможно неизменное, точное, истинное знание, а если бы оно и было, его невозможно было бы выразить словами, потому что любые слова оказывались бы ложью. Сократ иронизирует: «приверженцам этого учения нужно учредить другую какую-то речь, поскольку в настоящее время у них нет слов для своих положений…» [7, с. 240].
Но здесь и скрывается проблема. Ведь это, очевидно, не так; знание о мире, пусть и относительное, возможно и вполне выразимо при помощи языка. Более того, мы можем даже утверждать, что одно мнение является более близким к истине, чем другое (хотя софисты, конечно, правы в том, что абсолютной истиной не обладает во всей ее полноте ни один отдельный человек). Ведь есть разница между суждениями знатока и разглагольствованиями невежды. Протагор опровергает сам себя, когда, с одной стороны, говорит, что все мнения равноценны, а с другой стороны, считает себя и других софистов – мудрецами, а толпу – невеждами: Сократ иронизирует: «… с какой же стати, друг мой, Протагор оказывается таким мудрецом, что даже считает себя вправе учить других за большую плату, мы же оказываемся невеждами, которым следует у него учиться, – если каждый из нас есть мера своей мудрости?» [7, с. 215-216].
Итак, Протагор поставил проблему относительности того знания, что мы получаем при опоре на чувственный опыт. Протагор решил ее в ключе философского релятивизма, но это решение Платон признает неудовлетворительным, потому что тогда непонятно, каким образом мы можем выражать при помощи языка хотя бы относительные истины, откуда у нас берется представление о более или менее правдоподобных мнениях, на каком основании сам Протагор говорит, что в его учении есть хотя бы частица истины (которая там, безусловно, есть)?
Платон согласен с Протагором, что в чувственном текучем мире критерия для разграничения мнений нет, но именно потому кроме этого чувственного, материального мира есть и другой уровень реальности – царство эйдосов, объективно существующее идеальное. После прочтения «Теэтета» становится понятным, что Платон вводит гипотезу эйдосов (в других своих диалогах) не просто так, а прежде всего для того, чтобы объяснить познаваемость и выразимость этого мира, который был бы сплошным текучим неразличимым маревом, если бы в действительности – вне отдельного человеческого ума и конкретной индивидуальной речи – не существовало ничего неизменного, общего, универсального. Это неизменное, общее и универсальное – эйдосы, умопостигаемые сущности вещей, придающие им смысл и наполняющие смыслами и весь окружающий нас мир. Без эйдосов, объективного идеального, мы не могли бы различить большое и малое, истинное и ложное, справедливое и несправедливое, наш космос был бы хаосом. Как всегда, предельно ясно и глубоко пишет об этом А.Ф. Лосев: «Если данная вещь ничем не отличается от всякой другой вещи, то это значит, что мы не можем приписать ей ровно никакого свойства или качества, и тогда невозможно говорить о нашем познании этой вещи. Если мы знаем, что такое данная вещь, то, следовательно, она есть для нас нечто, а если нечто, то и нечто определенное, а если нечто определенное, то, значит, и совокупность тех или иных свойств. Стол есть нечто деревянное, это – раз. Стол есть приспособление для разного рода бытовых целей, для принятия пищи, для чтения и письма, для целесообразного помещения и размещения разных предметов. Это – два. Вот совокупность всех этих существенных свойств стола и есть его идея. Ясно, что, если мы не понимаем устройства и назначения стола, то у нас нет и никакой идеи стола, то есть мы ровно ничем не можем отличать стол от стула, от дивана, от кровати, от стен комнаты, где находится стол, и т.д. Но мы вполне понимаем, что такое стол, каково устройство этого деревянного предмета и каково его назначение. Следовательно, если мы действительно познаем стол, то мы обладаем и идеей стола. Другими словами, идея вещи есть нечто существенно, жизненно и разумно необходимое для того, чтобы мы познавали эту вещь, общались с ней, пользовались ею, могли ее создавать, могли ее переделывать и могли ее направлять в тех или иных целях» [4, с. 39-40].
Разумеется, это только одна проблема, которая разрешается при помощи гипотезы эйдосов. Вместе с тем, великие философские гипотезы тем и велики, что они разрешают сразу, одним ударом, целую связку философских проблем. Платон это делает и с проблемой бытия, и с проблемой любви, и с проблемой государства – если есть вечные неизменные эйдосы, то получает свое объяснение существование вещей, тяга человека к прекрасному и к благу, справедливость как база государственного управления. В этом отношении интересна мысль Алана Бадью, который видит в платоновской «идее» «понятийный оператор», связывающий воедино четыре аспекта любой сколько-нибудь развитой философии: онтологию, эстетику, философию любви и философию политики (Бадью называет их: матема, поэма, любовь и политическое изобретение) [см.: 1, с. 20].
Э.В. Ильенков и Д.И. Дубровский. Тем из представителей младших постсоветских поколений, кто в наши дни обращается к полемике между Д.И. Дубровским и Э.В. Ильенковым по вопросу о бытии идеального, может показаться, что полемика эта, скорее, имела отношение к идеологии. Первое впечатление после прочтения статей оппонентов: их главным образом интересовало, кто лучше и правильнее понимает интерпретацию идеального в трудах Маркса, Энгельса и Ленина. Ильенков апеллирует к фразе Ленина о превращении идеального в реальное и обвиняет Дубровского в вульгарном домарксовом материализме; Дубровский апеллирует к фразе Маркса о том, что идеальное есть материальное, пересаженное в голову человека, и обвиняет Ильенкова в гегельянстве. Кажется, что перед нами спор, значимый только для представителей марксистско-ленинской философии, которая давно уже растеряла своих сторонников и, правду сказать, сдана в архив истории науки.
Кстати, такое толкование произошедшего весьма выгодно для школы Дубровского. Сам главный оппонент Ильенкова в своих интервью, которые он дал уже после перестройки и падения СССР, неоднократно намекал, что он, дескать, ученый, который изучал феномен идеального сугубо научными средствами и лишь вынужден был использовать марксистскую фразеологию в силу условий того времени, тогда как Ильенков и его сторонники занимались навешиванием на него идеологических ярлыков. Складывается такая же ситуация, как с объяснением причин выдвижения Платоном гипотезы эйдосов. Бдительные советские диаматчики не в силах были понять, почему Платон «удваивает мир» и склонялись к тому, что это связано с его злостной сущностью идеолога рабовладельчества – мешал, мол, «прогрессивным афинским трудящимся» постичь материалистическую истину о мире, удерживал их в плену религиозных суеверий и тем самым «лил воду на мельницу» класса рабовладельцев. Дубровский так же до сих пор не в силах понять, почему Ильенков выступил против «столь очевидного», «научного» определения идеального, и не может ничего предположить, кроме того, что Ильенков якобы обнаружил в этом «научном определении» несоответствие с буквой некоторых высказываний Маркса и встал на защиту «буквы»…
В действительности всё, конечно, совершенно не так. Ильенков выступил против теории «субъективного идеального» Дубровского не столько потому, что был марксистом, сколько потому, что был вообще сторонником классической философии. Будь на его месте представитель любой другой вариации классической философии – например, религиозный философ-платоник, – и он с тем же пылом стал бы опровергать Дубровского. Просто ситуация в советской философии 1960-1970-х гг. была такова, что публично выступать можно было только с позиций марксизма, и религиозным платоникам никто не дал бы слова в официальной печати.
И подобно тому как Платон выдвинул гипотезу эйдосов для решения проблемы относительности истины, которая была поставлена софистами, Ильенков тоже утверждает объективность идеального, дабы отстоять существование неизменных, всеобщих, абсолютных истины, добра и красоты. Собственно, он не скрываясь говорит об этом в своих работах. «Что нашему автору до того, что философия, как особая наука, разрабатывала и разработала категорию “идеального” именно в связи с проблемой истинности (курсив Ильенкова. – Р.В.) и что только в этой связи ее определения идеального и материального вообще имели и имеют смысл?» [5, с. 231] – иронизирует Ильенков над философской наивностью Дубровского и затем раскрывает эту мысль подробнее. «Хорошо известно, что теоретическая разработка категории “идеального” в философии была вызвана необходимостью установить, а затем и понять как раз то самое различие, которое, по Д.И. Дубровскому, “для характеристики идеального безразлично”, – различие и даже противоположность между мимолетными психическими состояниями отдельной личности, совершенно индивидуальными и не имеющими никакого всеобщего значения уже для другой личности, и всеобщими и необходимыми, и в силу этого объективными, формами знания и познания человеком независимо от него существующей действительности» [5, с. 232].
Действительно, Д.И. Дубровский сводил идеальное к субъективным психическим феноменам, которые, как и полагается всему субъективному, существуют лишь в голове человеческого субъекта. Ильенков приводит показательное определение, имеющееся в работах Д.И. Дубровского: «Идеальное — это психическое явление <…>; а постольку идеальное представлено всегда только в сознательных состояниях отдельной личности <…> Идеальное есть сугубо личностное явление, реализуемое мозговым нейродинамическим процессом определенного типа» [5, с. 230].
Обычно обращают внимание на момент вульгарного материализма, который, безусловно, присутствует в этом определении, но для нас сейчас важно другое, что также не ускользнуло от взора Ильенкова, – тенденция к философскому релятивизму, скрытая в трактовке идеального по Дубровскому. В самом деле, если идеальное принадлежит только отдельным человеческим личностям и тождественно их психическим феноменам, которые, ясно, у разных личностей различны, да и у одной и той же личности постоянно меняются или, как специально подчеркивает Ильенков, являются «мимолетными», то никакого постоянного, неизменного, универсального идеального не существует. А следовательно, не существует постоянных, неизменных, всеобщих истины или добра, или красоты, а есть лишь текучие изменчивые субъективные мнения об истине, добре и красоте у отдельных личностей. Но тогда спрашивается: как возможна та самая наука, принадлежностью к которой так гордился Дубровский, противопоставлявший свой «научный», «точный», физиологический подход к проблеме идеального «абстрактному», «расплывчатому», «слишком философскому» подходу Ильенкова? Ведь еще Иммануил Кант показал, что законы природы, которые открывает естествознание, носят общезначимый, универсальный, общеобязательный характер и именно потому из опыта как совокупности текучих и субъективных ощущений они не выводимы. Кант в «Пролегоменах» в главе «Как возможно чистое естествознание?» прямо пишет: «.. опыт, хотя и учит меня тому, что существует и как оно существует, но никогда не научает тому, что это необходимо должно быть так, а не иначе… Тем не менее мы действительно обладаем чистым естествознанием, которое a priori и со всей необходимостью, требуемой для аподиктических положений, излагает законы, коим подчинена природа» [6, с. 182].
Строго говоря, невозможно даже утверждать, что Дубровский поставил проблему относительности истины, для разрешения которой Ильенков ввел свою концепцию объективности идеального. Дубровский и его сторонники не обладали философской проницательностью, глубиной и последовательностью греческих софистов, чтобы до конца осознать эту проблему. Они создали некий абрис современной криптопозитивистской софистической гносеологии, закамуфлированной под марксизм, в рамках которой все идеалы и ценности латентно сводились к текучим, мимолетным и субъективным психическим феноменам. Но они в полной мере даже и не поняли: к чему ведут их теоретические установки – вероятнее всего, в силу своей философской малограмотности и незнания философской классики – от Платона до Канта и Гегеля. Малограмотность же эта проистекала из сугубо позитивистской гордыни: зачем, мол, изучать философов-классиков, когда они якобы давно устарели, и пришло время использовать вместо архаичной диалектики новейшие научные – физиологические, лингвистические, кибернетические – теории? Ильенков верно подметил, что Дубровский даже не осознавал сути философской проблемы идеального и пытался подменить ее сугубо научной проблемой из области физиологии высшей нервной деятельности: «Нетрудно понять, что понятие “идеального”, “конкретизированное” таким способом, превращается в простое название (“обозначение”) этого, очень специализированного, мозгового (нейродинамического) процесса, а философская проблема отношения “идеального” к “материальному” подменяется вопросом об отношении одного нейродинамического процесса к другим нейродинамическим же процессам, – специальной проблемой физиологии высшей нервной деятельности» [5, с. 231].
Непонимание это Дубровский продемонстрировал и через двадцать лет после начала дискуссии – в статье 1988 года «Категория идеального и ее соотношение с понятиями индивидуального и общественного сознания», где он писал: «если материальное означает объективную реальность, то тогда идеальное должно обозначать субъективную реальность» [8, с. 157]. Не совсем ясно, почему Д.И. Дубровский априори утверждает, что объективная реальность именно материальна, а не, скажем, идеально-материальна, ведь никакого доказательства этого он не приводит. Но даже если так – материальный мир отражается в человеческом сознании, и если мир вне человека объективен и в нем есть общезначимые универсальные, объективные закономерности, которые открывает наука, то эти характеристики должны отражаться и в сознании, в мире человеческого бытия; иначе получится, что закон природы объективен и общезначим, а человеческое суждение о законе природы субъективно и необязательно. А отсюда следует, что никакое познание, осмысление мира невозможно, поскольку научное и философское знание превращается в набор необязательных личных мнений.
Сравнительно недавно Д.И. Дубровский, правда, стал приближаться к осознанию этой проблемы; в статье 2007 года он наконец-то ставит проблему субъективной реальности и пытается ее решить с позиций своего «информационного подхода» [3]. Беда лишь в том, что все его рассуждения об информации как основе психических феноменов, о кодировании и раскодировании мозговых процессов снова бьют мимо цели: всё это так и не объясняет того, почему объективные мозговые процессы отражаются в субъективных психических феноменах. И это не говоря уже о том, что сами мозговые процессы даны нам не непосредственно, а тоже в отраженном виде, как феномены сознания, пусть и лишенные образности и сведенные к математическим и биологическим моделям, а согласно позиции самого же Дубровского, всё, что находится в сознании – субъективно…
Собственно, это и пытался Ильенков объяснить Дубровскому, а Платон – софистам: без объективно существующего идеального мир был бы непознаваемой субъективной реальностью, но мы ведь познаем мир, пусть и не без ошибок, мы имеем общезначимое знание, универсальные критерии для различения явлений, значит, существует не только текучая и изменчивая реальность индивидуальных субъективных сознаний. Ильенков пишет: «Проблема идеальности всегда была аспектом проблемы объективности (“истинности”) знания, то есть проблемой тех и именно тех форм знания, которые обусловливаются и объясняются не капризами личностной психофизиологии, а чем-то гораздо более серьезным, чем-то стоящим над индивидуальной психикой и совершенно от нее не зависящим. <…> Вот эта-то своеобразная категория явлений, обладающих особого рода объективностью <…> и была когда-то обозначена философией как идеальность этих явлений, как идеальное вообще (курсив Э.В. Ильенкова – Р.В.). В этом смысле идеальное <…> фигурирует уже у Платона, которому человечество и обязано как выделением этого круга явлений в особую категорию, так и ее названием» [5, с. 232].
Разумеется, понимание идеального у марксиста Ильенкова и у мистика Платона различное, но это сейчас не суть важно, и это пока можно оставить за скобками нашего рассуждения. Главное, что и Платон, и Ильенков выдвинули свои концепции идеального в борьбе с софистическими течениями своего времени, грозившими утопить философию и вообще научное познание в болоте релятивизма. Платону это удалось – греческая философия вышла из тупика софистики и пошла торной дорогой классической мысли. Вслед за Платоном появился Аристотель, который не только систематизировал учение Платона, попытавшись разрешить его некоторые внутренние противоречия, но и систематизировал все имевшиеся к тому времени достижения в области естествознания и тем самым определил развитие конкретных наук на тысячелетие вперед.
Ильенкову это, увы, не удалось; и не его вина, что крипотопозитивизм Дубровского и его сторонников, сначала скрывавшийся под маской марксизма, заполонил советскую философию, а затем, в постсоветские времена, сбросил эту маску и открыл свое истинное лицо (Дубровский, как известно, теперь открыто заявляет о своей принадлежности к «аналитической философии сознания»). Сейчас в российской философии мы видим доминирование разного рода неопозитивистов, сторонников лингвистической и аналитической философии с одной стороны и постмодернистов разного толка с другой. И те и другие при слове «истина» высокомерно усмехаются, как и полагается софистам, считающим свое отрицание истины высшей истиной (так, В.П. Руднев снисходительно сообщает читателям «Независимой газеты»: «В своем определении реальности я сказал, что это настолько сложная разветвленная знаковая система, что простому человеку трудно понять, что реальность – это знаковая система. <…> Но как философ я понимаю, что реальность – это иллюзия» [2]). К сожалению, выступления сторонников классической диалектической философии, в позднесоветские времена с разных позиций критиковавших «Большую современную софистику» (А. Бадью) в ее латентном псевдомарксистском варианте и отстаивавших идеальное и идеалы – это были, конечно, со стороны марксистов Э.В. Ильенков и М.А. Лившиц, а со стороны религиозных мыслителей А.Ф. Лосев, – оказались мало кем услышанными. Однако борьба за классическую мысль в России еще не окончена.
Релятивизм — обзор | ScienceDirect Topics
Способствует ли эта форма релятивизма угнетению или культурному империализму или избегает их?
Защитники этой версии этического релятивизма, такие как Шепер-Хьюз, часто утверждают, что их теоретическая позиция — важный способ избежать культурного империализма. Копельман, напротив, считает, что он скорее способствует угнетению и культурному империализму, а не избегает его. Эта точка зрения, утверждает она, влечет за собой не только утверждение, что обрезание женских гениталий является правильным в культурах, где это одобрено, но и утверждение, что все, что пользуется широким общественным одобрением, является правильным, включая рабство, войну, дискриминацию, угнетение, расизм и пытки.То есть, если утверждение, что действие является правильным, означает, что оно имеет культурное одобрение, то из этого следует, что одобренные культурой акты войны, угнетения, порабощения, агрессии, эксплуатации, расизма или пыток являются правильными. С этой точки зрения, неодобрение других культур не имеет значения для определения того, правильны ли действия или нет. Соответственно, неодобрение людей в других культурах, даже жертв войны, угнетения, порабощения, агрессии, эксплуатации, расизма или пыток, не учитывается при принятии решения о том, что правильно или неправильно, кроме как в их собственной культуре.
Копельман утверждает, что в этой версии этического релятивизма возражения людей из других культур являются просто выражением их собственных культурных предпочтений, не имеющих никакого морального статуса в обществе, которое участвует в рассматриваемых действиях. Копельман утверждает, что это приводит к отвратительным выводам. Если эта теоретическая позиция последовательно придерживается, утверждает она, это приводит к выводу, что мы не можем делать межкультурные суждения с моральной силой в отношении любой социально одобренной формы угнетения, включая войны, пытки или эксплуатацию других групп.Пока эти действия одобряются в обществе, которое их делает, они правы. Тем не менее, мировое сообщество считало, что оно выносило важные межкультурные суждения с моральной силой, когда оно критиковало коммунистическое правительство Китая за подавление протестного митинга продемократических студентов, южноафриканцев за поддержку апартеида, Советы за использование психиатрии для подавления инакомыслия и резня этнических групп в бывшей Югославии и в Руанде. В каждом случае представители критикуемого общества обычно говорили что-то вроде: «Вы не понимаете, почему это морально оправдано в нашей культуре, даже если в вашем обществе этого не было.«Если этический релятивизм правдоподобен, то и эти ответы должны быть правдоподобными, а они — нет. Копельман пишет, что им неприятно предполагать, что мы настолько разные, что не можем осмысленно и рационально разговаривать на морально важные темы.
Защитники этического релятивизма могут ответить, что культуры иногда пересекаются, и поэтому протесты жертв внутри или между культурами должны учитываться. Но этот ответ порождает еще две трудности. Если это означает, что взгляды людей в других культурах имеют моральный статус и угнетатели должны учитывать взгляды жертв, такие суждения несовместимы с этой версией этического релятивизма.Они несовместимы с этой теорией, потому что представляют собой межкультурные суждения с моральным авторитетом. Во-вторых, как мы уже отметили, эта версия этического релятивизма не является полезной теорией для установления того, что правильно, а что неправильно.
У релятивистов, которые хотят отстоять разумные социальные кросс-культурные и моральные суждения о ценности свободы, равенства возможностей или прав человека в других культурах, кажется, есть два варианта. С одной стороны, если они согласны с тем, что некоторые межкультурные нормы имеют моральный авторитет, они также должны согласиться с тем, что некоторые межкультурные суждения об обрезании / калечении женских половых органов также могут иметь моральный авторитет.Шервин — релятивист, идущий по этому пути, тем самым отказавшись от критикуемой здесь версии этического релятивизма. С другой стороны, если они защищают эту версию этического релятивизма, но при этом делают кросс-культурные моральные суждения о важности таких ценностей, как терпимость, групповые выгоды и выживание культур, им придется признать непоследовательность в своих аргументах. Например, Шепер-Хьюз выступает за терпимость к другим системам культурных ценностей. Она не считает это утверждение непоследовательным.Она говорит, что толерантность между культурами — это правильно, , но это кросс-культурное моральное суждение с использованием моральной нормы (терпимости). Точно так же релятивисты, которые утверждают, что неправильно устранять ритуалы, придающие смысл другим культурам, также непоследовательны в своих суждениях, предполагающих наличие подлинного межкультурного морального авторитета. Даже изречения, которые иногда используют защитники этического релятивизма, такие как «Когда в Риме поступают, как римляне», морально дозволено принять все культурные нормы, в какой бы культуре ни находились.Таким образом, для защитников этой версии этического релятивизма непоследовательно делать межкультурные моральные суждения о толерантности, групповой пользе, межобщественном уважении или культурном разнообразии.
Копельман утверждает, что с учетом этих трудностей бремя доказательства лежит на защитниках этой версии этического релятивизма. Они должны показать, почему мы не можем делать то, что, как нам кажется, мы иногда должны делать и можем делать очень хорошо, а именно, участвовать в межкультурном моральном обсуждении, сотрудничестве или критике и оказывать поддержку людям, чье благополучие или права находятся под угрозой в других культурах.Защитники этического релятивизма должны учитывать то, что кажется подлинным моральным авторитетом международных профессиональных сообществ, которые занимают моральные позиции, например, в отношении борьбы с пандемиями, прекращения войн, прекращения угнетения, продвижения санитарного просвещения или искоренения бедности. Ответы о том, что наши профессиональные группы сами являются своего рода культурами, кажутся правдоподобными, но несовместимыми с этой версией этического релятивизма, как уже обсуждалось. Некоторые защитники этического релятивизма возражают, что устранение важных ритуалов из культуры чревато разрушением общества.Шепер-Хьюз настаивает на том, что эти культуры не смогут выжить, если они изменят такую центральную практику, как женское обрезание. Однако этот контраргумент не является решающим. Рабство, угнетение и эксплуатация также необходимы для некоторых образов жизни, но немногие будут защищать эти действия, чтобы сохранить общество. Более того, Эль Дарир отвечает на это возражение, подвергая сомнению предположение о том, что эти культуры могут выжить только при продолжении клитородэктомии или инфибуляции. Она утверждает, что эти культуры с большей вероятностью будут преобразованы войной, голодом, болезнями, урбанизацией и индустриализацией, чем прекращением этой древней ритуальной хирургии.Еще один аргумент состоит в том, что если рабство, угнетение и эксплуатация ошибочны, независимо от того, существуют ли групповые выгоды или нет, то решение об искоренении калечащих операций на женских половых органах не должно зависеть от процесса взвешивания его выгод для группы.
Такие релятивисты также непоследовательно считают, что групповая выгода настолько важна, что другие культуры не должны вмешиваться в местную практику. Это делает групповую выгоду важнейшей межкультурной ценностью, что, по утверждению этических релятивистов, не может быть оправдано.Если нет межкультурных ценностей относительно того, что правильно или неправильно, защитник этического релятивизма не может постоянно говорить такие вещи, как «Одна культура не должна мешать другим», «Мы должны быть терпимыми к другим социальным взглядам», «Все культура одинаково ценна »или« Неправильно вмешиваться в другую культуру ». Каждое из этих утверждений представляет собой межкультурные моральные суждения, предполагающие авторитет, основанный на чем-то отличном от одобрения конкретной культуры.
Идея «морального релятивизма» в философии Фридриха Ницше
«Моральный релятивизм» Сноска 1 , несомненно, является одной из самых ярких тем и наиболее спорных вопросов среди всех релятивизмов.В строгом смысле моральный релятивизм утверждает, что моральные решения, суждения о правильном и неправильном, хорошем и плохом, справедливом и несправедливом и т. Д. Коренятся в конкретных исторических периодах или социальных контекстах, и что их связь и институт ограничены и « относительно их конкретной ситуации. То есть моральный релятивизм отвергает универсальную ценность или абсолютную истину в контексте морали. Моральный релятивизм основан на ряде связанных источников доказательств и подтвержденных утверждений:
- 1.
Эмпирические факты направлены на то, чтобы заставить нас осознать, насколько сильно различаются моральные убеждения. Группы различных сообществ и институтов делают свой выбор в соответствии с нормативными целями и стандартами, которые не только сильно различаются, но и часто могут противоречить друг другу. Моральные установки и выбор в значительной степени зависят от их сообщества, социального или эмоционального фона.
- 2.
Суждения между противоречивыми моральными взглядами мирового сообщества не являются объективными или универсальными. Все попытки открыть так называемую «истину», будь то фундаменталистские или философские системы, не увенчались успехом. Более того, эта неудача не из-за недостатка знаний; напротив, это свидетельство того, что моральные принципы отличаются от эмпирических фактов. Моральный плюрализм не потребовал бы релятивизма, если бы действительно существовал надежный путь к изобретению моральных истин или формированию универсальных оснований для разрешения споров между противоречивыми нормативными суждениями.Моральные релятивисты даже утверждают, что любой процесс создания рассуждений обязательно будет иметь глубоко укоренившиеся нормативные, исторические и культурные убеждения. Обоснование и рассуждение сами по себе являются интерпретирующими выражениями, фактически ограниченными историческими и культурными эффектами, и, следовательно, неспособными внести свой вклад в серию объективных и общепринятых моральных оценок.
- 3.
Моральный релятивизм, прямо или косвенно, подразумевает, что разнообразные моральные суждения несопоставимы или несоизмеримы.Несоизмеримость в этике утверждает, что когда два принципа, такие как стандарты, причины или ценности, несопоставимы, когда они не могут иметь одинаковый стандарт измерения и не могут быть сравнены друг с другом каким-либо образом.
Таким образом, мы можем провести различие между тремя типами моделей в пользу морального релятивизма:
- 1.
Описательный моральный релятивизм: Моральные стандарты сильно различаются с течением времени от общества к обществу и в то же время от человека к человеку в рамках одного и того же сообщества, которое возникло в различных исторических ситуациях или социальных поселениях, в которых они были сформированы.
- 2.
Нормативный моральный релятивизм: Все, что является этически хорошим или плохим, может и должно определяться только в рамках и в соответствии с культурными и социальными стандартами различных культур, и, учитывая, что как общественные ценности, так и моральные стандарты, похоже, сильно различаются, релятивизм следует .
- 3.
Метаэтический релятивизм: идея о том, что не существует объективных, вечных или универсальных ценностных суждений в контексте морали. Часто противопоставляется моральному реализму и абсолютизму. Его аргументы идут дальше, чем отрицание истинности этических концепций когнитивистов и объективистов. Он также основан на фактах, сформированных описательным релятивизмом, и выводах нормативного релятивизма, чтобы утверждать, что о морали нельзя ничего сказать, кроме местных требований о том, что правильно и неправильно, хорошо и плохо. Сноска 2
Ницше начинает свою философию как восстание против покорного этоса своего времени, и он понимает, что мораль управляется и регулируется слабыми как инструмент власти. Замечания Ницше о морали имеют сильную релятивистскую основу. Во втором разделе книги «Человек, слишком человечен», «Об истории моральных чувств», «» Ницше бросает вызов христианской идее добра и зла, как это теоретизировал Артур Шопенгауэр. Footnote 3 Ницше сопротивляется: «Иерархия добра… не является постоянной и неизменной во все времена. Если кто-то предпочитает месть справедливости, он морален по меркам прежней культуры, но по меркам нынешней культуры он аморален »( HH II: 45). То, что один участник считал добром, было осуждено другим как зло, поскольку в конечном итоге это было бессмысленным и провальным. Позже то, что когда-то считалось злом, стало считаться добром, потому что оно оказалось успешным и полезным. Следовательно, моральные законы связаны с историей, культурой и социальной группой, которой они призваны служить.Для Ницше все традиционные моральные стандарты, отстаиваемые философами и религиозными группами, увлекательны, есть скрытые основания, по которым они требуются как так называемая абсолютная истина или универсальная уверенность. Ницше упрекает бывшего теоретика морали: «Философ весьма своеобразен тем, что они отражают как мораль, и« в частности, его [философские] моральные принципы несут решительное и решающее свидетельство того, кто он такой, что означает, в каком порядке ранжируются самые сокровенные побуждения человека. его натуры относятся друг к другу »( BGE , 6).Философы пытаются найти универсальные и объективные моральные принципы, основанные на ложном впечатлении, поскольку «то, что философы называли« рациональным основанием морали »и стремились предоставить, было, если рассматривать в надлежащем свете, всего лишь академической формой веры в господствующую мораль. , новый способ его выражения и, следовательно, сам факт в рамках определенной морали »( BGE , 186). В книге « Человек, все слишком человечно» Ницше обвиняет традиционных философов в незнании исторического смысла: «Отсутствие исторического чутья — врожденный недостаток всех философов…».Они не поймут, что человек развился, что способность познания также развилась, в то время как некоторые из них даже позволяют себе вращать весь мир из этой способности познания … Но все изменилось; нет ни вечных фактов, ни абсолютных истин. Таким образом, историческое философствование необходимо впредь, как и достоинство скромности ». Сноска 4 ( HH I: 2).
Ницше объясняет мораль, исследуя моральную историю конкретного общества или культуры, показывая, как социальные установки менялись с течением времени.Ницше дает нам «генеалогию» морали в отношении истории. Описать генеалогию — значит определить историческое происхождение, и Ницше указывает во введении О генеалогии морали , что его цель — исследовать исторические корни наших моральных убеждений. Нравственность не является вечным результатом априорного разума; это культурная конструкция, которая со временем развивается по мере исторического роста человеческих сообществ. Ницше исследует корни человеческого общества до двух классов морали, известных как «мораль господина» и «мораль рабов».Решающим набором моральных принципов высшей морали является разница между «хорошим» и «плохим»; для морали рабов это разница между «добром» и «злом». Генеалогия Ницше затем развивается как описание того, как мораль господ разрушается моралью рабов. Ницше утверждает, что отличительной чертой дихотомии «хорошее» / «плохое» является то, что положительный термин «хороший» указывает на первичную значимость. Ценность, которую он представляет, — это сильное самоутверждение благородного класса. Ницше утверждает, что «две противоположные ценности — хорошее и плохое; добро и зло на протяжении тысячелетий вели ужасную борьбу на земле ».«Хороший» означает «сильный», обладающий благородными достоинствами, такими как храбрость, стойкость, физическая и умственная сила и гордость. «Плохие» — это те, кто слаб, мелочен и уязвим, у которых полностью отсутствуют благородные добродетели. Их не осуждают только за то, что они плохие, и они изначально бедны.
Мастер морали признает себя главным мерилом ценностей, и впоследствии этот индивид развивает свои собственные ценности на основе своего самоутверждения. В этом отношении Ницше утверждает, что: «Человек благородного типа чувствует, что он определяет ценность, он не нуждается в чьем-либо одобрении, он считает, что« то, что вредно для меня, вредно само по себе », он знает, что именно он в первую очередь уважает вещи, он создает ценности.Он чтит все, что видит в себе: такая мораль возвеличивает себя »( BGE , 260). Следовательно, формирование ценностей творчески достигается «благородным человеком», и его создание ценностей подтверждает существование, которому он приписывает свою личную сущность. С этой точки зрения Ницше утверждает, что высшая мораль не стремится распространять моральные истины, и ее ценности не относятся к правдивой природе общественной жизни и взглядов. Вместо этого господствующая мораль выражает субъективный взгляд на определенную динамику и этим субъективным определением превращает в камень уникальное творение «я».Для Ницше верховенство эгоистичных поступков лежит в основе системы оценки морали господина, поскольку «я» часто признает свои личные ценности в оценке морали. Другими словами, в господствующей морали определение добра и зла определяется личными интересами индивида и имеет обязательную природу только для того «я», которое может утверждать существование с помощью таких оценок. «Скорее, это были сами« хорошие », то есть благородные, могущественные, высокопоставленные и возвышенные, которые чувствовали и утверждали себя и свои действия как хорошие, то есть первоклассные, в отличие от все низкие, низменные, простые и плебейские.Именно из-за этого пафоса дистанции они впервые захватили право создавать ценности и придумывать названия для этих ценностей: какое они имеют отношение к полезности! » ( GM , I: 2).
С другой стороны, мораль рабов формулируется платонической моралью, за которой следуют иудео-христианская, и кантианская универсализуемость. Ницше описывает рабскую мораль как любую мораль, сформированную бессильными в мщении сильным и благородным, так что ценности сильных и благородных рассматриваются как зло.Это не позволяет сильной склонности человека к жизни проявлять себя. Ницше отрицает, что такие качества, как сострадание, доброта и бескорыстие, являются универсальными ценностями. Согласно Ницше, «рабская мораль — это иудео-христианская мораль в чистом виде. Чтобы он сказал «нет» всему на земле, что представляет восходящую тенденцию жизни, тому, что оказалось удачным, силе, красоте, самоутверждению ». Основное отрицание иудео-христианской моральной системы Ницше сосредоточено на различении добра и зла.Ницше утверждает, что оценка благ в этой системе основана на альтруистических тенденциях. Добрые дела выявляются только при отсутствии индивидуального личного интереса, а его бескорыстие поощряется как неотъемлемая черта добра. Таким образом, предполагается соответствие хороших действий, черты которых служат «общности» в социальной жизни.
Для Ницше «негодование» является основным источником идеалов добра и зла, побуждая рабскую идеологию игнорировать нечто большее, чем то, что она продвигает универсальные принципы.Таким образом, рабская мораль отвергает всякую уникальную моральную ценность для оправдания «правдивости» добра и зла, и последовательно «ressentiment» рабской морали ищет основания судить о любом принятии отдельных ценностей как о нарушении ее моральных законов. В морали рабов чувство обиды заключает в себе связанные этикеты прошлого, сохраняя внешнюю ответственность за то, что было сделано против самого себя. Его претензии на несправедливое обращение являются основанием для передачи дополнительных моральных норм.Ницше определяет эти специфические черты рабской морали следующими словами: «Рабское восстание в морали начинается, когда ресентимент сам становится созидательным и порождает ценности: рессентимент природы, которая отвергает истинную реакцию поступков и компенсирует себя воображаемой реакцией. месть. В то время как всякая благородная мораль развивается из торжествующего утверждения самой себя, рабская мораль с самого начала говорит «нет» тому, что «снаружи», тому, что «отличается», тому, что «не является собой»; и это нет — его творческий поступок.Эта инверсия ценностно-постулирующего взгляда — потребность направить взгляд вовне, а не обратно к себе — является сущностью ресентимента; Для того чтобы существовать, мораль рабов всегда сначала нуждается во враждебном внешнем мире; физиологически говоря, для того, чтобы действовать, ему необходимы внешние стимулы — его действие, по сути, является реакцией »( GM , I: 10).
Ницше делает свои первые упорные шаги в эволюции морали в книге Human, All Too Human. В этой работе пессимистический и оптимистический тон Рождение трагедии был превращен в новое позитивистское отношение, понимание того, что человеческая жизнь и моральные ценности не укоренились в далекой метафизической реальности, а, напротив, исторически подготовлены: Как, тогда начинают ли появляться моральные суждения? Ответ Ницше состоит в том, что они являются результатом самого этого исторического состояния.В книге, написанной в 1886 году под номером Beyond Good and Evil , Ницше провозглашает известное заявление о том, что моральных явлений не существует самих по себе, а есть только моральные интерпретации этих явлений. То, что мы называем «моралью», на самом деле является процессом интерпретации физиологических явлений: «Нравственность — это иллюзия. Как и у всех организмов, наши действия определяются не бессильными побуждениями нашего интеллекта или химерическими императивами моральных предписаний, а сложным взаимодействием наших инстинктов и побуждений.«Сознание, — утверждает Ницше в книге« Daybreak », — это просто эпифеномен,« более или менее фантастический комментарий к неизвестному, возможно, непознаваемому, но полному тексту »( D , II: 120) — неэлегантное зеркало, которое туманно изображает первобытные органические функции человеческого тела. Моральные суждения — это именно такой мираж, просто «образы и фантазии, основанные на неизвестном нам физиологическом процессе» ( D , 12). Или, как он позже выразился в образе, к которому он часто возвращается: мораль — это не что иное, как «неадекватный вид языка жестов […], посредством которых некоторые физиологические факты тела хотели бы сообщить о себе ». (Мур, 2004, с. 65).
Согласно американскому философу Дэниелу Деннету, Ницше считал, что мораль произошла из доморального мира человеческой истории из-за преимуществ, которые она давала виду. Деннет утверждает, что для Ницше стремление к нравственности сформировалось в смысле обмена. Footnote 5 В разделе 32 книги «За пределами добра и зла», Ницше классифицировал три исторических этапа развития морали: доморальную эпоху, моральный период и внеморальную эпоху.
- 1.
«Домораль»: На первом этапе человеческой предыстории ценность действия зависела исключительно от его последствий. Мотивы сочли бессмысленными.
- 2.
Моральный период: (а). В этот период мораль проявляется по мере того, как начало действия приобретает смысл. Чтобы быть нравственно хорошим человеком, нужно было смотреть «внутрь себя».(б). Однако тогда здесь все же произошла ужасная ошибка: «происхождение» и ценность действия приравнивались к цели человека, то есть к тому, что этот человек решил намеренно.
- 3.
«Вне морального»: (а). На следующем этапе будет признана ценность действия не по тривиальной и обманчивой цели человека, а по непреднамеренности (например, «непреднамеренное» последствие или способ выполнения действия), которую мы сможем определить. к тому, что было совершено действие, не входившее в намерение.(б). В конечном итоге философы выйдут за рамки добра и зла и создадут новые ценности.
Для Ницше история морали — это удивительно история морализации существовавшей ранее моральной системы. Другими словами, это повествование о переходе от «доморальной эры человечества» к «периоду, который в более слабом смысле можно назвать моральным». Люди были связаны законами в доморальных рамках, которым предшествовали сложные интеллектуальные механизмы ролей, прав и обязанностей.В Сумерках идолов (1889) Ницше часто говорит о морали в противоположность природе, он думает, что мораль консервативна «по отношению» к тому, что мы можем рассматривать как необузданное проявление импульсов, желаний и наклонностей. Критическое отношение Ницше к морали, таким образом, породило идею морального релятивизма: «моральных фактов не существует вообще. Моральные суждения имеют это общее с религиозными суждениями, каждый из которых верит в несуществующую реальность.Мораль, которая является только интерпретацией или, лучше сказать, неверной интерпретацией определенных явлений … принадлежит стадии невежества, на которой отсутствует понятие реальности, любого различия между воображаемым и реальным. Мораль — это просто язык жестов, просто симптоматика: нужно уже знать, что он собирается извлечь из этого выгоду »( TI , 1). Ницше пытается указать на то, что сила морали не является продуктом ее религиозных или добожественных основ, и что приписывание божеству нашей системы ценностей — всего лишь басня, приписывание фиктивного абстрактного источника того, что в строго натуралистическом понимании. словами, можно уточнить как генетически, так и функционально.Нравственность возникает как естественный феномен в ответ на желание стабилизировать группы, гарантировать их сохранение и помочь контролировать силы и желания, которые могут нарушить или разрушить сплоченность сообщества без какого-либо надзора или сублимации.
Справочник Рутледж по философии релятивизма — 1-е издание
Содержание
Введение: Учебник по релятивизму Мартин Куш
Часть 1: Релятивизм в незападных философских традициях
1.Релятивизм в индийской традиции: изучение точек зрения (Dṛṣṭis) Стханешвар Тималсина
2. Релятивизм в исламских традициях Надер Эль-Бизри
3. Африканская философия Анке Грэнесс
Часть 2: Релятивизм в западных философских традициях
4. Релятивизм в древнегреческой философии Тамер Навар
5. Средневековая философия Джон Маренбон
6.Релятивизм в ранней современной философии Мартин Ленц
7. Релятивизм в немецком идеализме, историзме и неокантианстве Катерина Кинзель
8. Ницше и релятивизм Джессика Н. Берри
9. Маркс и марксизм Лоуренс Даллман и Брайан Лейтер
10. Многоликая антирелятивизм в феноменологии Соня Ринофнер-Крейдл
11. История, диалог и чувства: взгляды на герменевтический релятивизм Кристин Гьесдал
12.Релятивизм в контексте национал-социализма J ohannes Steizinger
13. Релятивизм и прагматизм Анна Бонкомпаньи
14. Релятивизм и постструктурализм Джеральд Посселт и Сергей Зейтц
Часть 3: Релятивизм в этике
15. Моральная амбивалентность Дэвид Б. Вонг
16. Моральный релятивизм и моральные разногласия Александра Плакиас
17.Моральный релятивизм Питер Зайпель
18. Релятивизм и морализм Джон Кристиан Лаурсен и Виктор Моралес
19. Несоизмеримость, культурный релятивизм и фундаментальные предпосылки морали Марк Р. Рейфф
20. Эволюционное разоблачение и моральный релятивизм Дэниэл З. Корман и Дастин Локк
21. Мотивирующие причины Кристоф Ханиш
Часть 4: Релятивизм в политической и правовой философии
22.Релятивизм и либерализм Мэтью Дж. Мур
23. Релятивизм и радикальный консерватизм Тимо Панкакоски и Юсси Бакман
24. Коммунитаризм Генри Там
25. Мультикультурализм Джордж Краудер и Джеффри Брам Леви
26. Критическая теория и проблема релятивизма Эспен Хаммер
27. Релятивизм в феминистской политической теории Шарлотта Ноулз
28.Релятивизм и раса Эса Диас-Леон
29. Релятивизм в философии права Торбен Спаак
Часть 5: Эпистемический релятивизм
30. Самоопровержение Стивен Хейлз
31. Эпистемический релятивизм и эпистемический интернализм Дункан Причард
32. Релятивизм и экстернализм Адам Дж. Картер и Робин Маккенна
33. Эпистемический релятивизм и прагматическое вторжение Брайан Ким
34.Релятивизм и эпистемология шарниров Annalisa Coliva
35. Релятивизация эпистемических преимуществ Натали Эштон
Часть 6: Релятивизм в метафизике
36. Онтологическая теория относительности Дэвид Дж. Стамп
37. Разница в количественном выражении Эли Хирш и Джаред Уоррен
38. Метафизический антиреализм Вера Флоке
39. Онтологический релятивизм и статус онтологических споров Делия Беллери
Часть 7: Релятивизм в философии науки
40.Релятивистское наследие Куна и Фейерабенда Ховард Санки
41. Релятивизм и антиномианизм Дэвид Блур
42. Релятивизм, перспективизм и плюрализм Хасок Чанг
43. Релятивизм и научный реализм и релятивизм Статис Псиллос и Джейми Шоу
44. Философия социальных наук Стивен Тернер
45. Релятивизм в философии антропологии Инкери Коскинен
46.Релятивизм в логике и математике Флориан Штейнбергер
47. Логика и психология рассуждения Катерина Дутиль Новаэс
Часть 8: Релятивизм и философия языка и разума
48. Концептуальные схемы Дрю Хленцос
49. Семантика и метафизика истины Мануэль Гарсия-Карпинтеро
50. Оценка релятивизма Филиппо Феррари
51.Безошибочное несогласие Дэн Земан
52. Релятивизм и перспективное содержание Макс Кёльбель
53. Дело против семантического релятивизма Тереза Маркес
54. De se Relativism Энди Иган и Дирк Киндерманн
55. Релятивизм и экспрессивизм Боб Беддор
Часть 9: Релятивизм в других областях философии
56. Релятивизм в философии религии Пол О’Грейди
57.Релятивизм и экспериментальная философия Стивен Стич, Дэвид Роуз, Эдуард Машери .
Индекс
Верен ли моральный релятивизм? —
Доцент философии Дэвид Дженсен разобрал труды Томаса Нагеля и идею морального релятивизма в недавнем выпуске серии лекций по философии.
Прово, Юта (27 октября 2016 г.) — В 2008 г. Кристиан Смит, социолог из Нотр-Дама, провел опрос среди широкой выборки молодых людей по всей Америке, чтобы высказать свое мнение о морали по нескольким ключевым вопросам.Подавляющее большинство ответило, что мораль — это вопрос личного вкуса, и типичным ответом было что-то вроде «Кто я такой, чтобы говорить, что для них правильно?» Это классический ответ теорий морального релятивизма.
Дэвид Дженсен, доцент философии в BYU, затронул идею морального релятивизма в недавней лекции. «[Моральный релятивизм] — это не люди, придерживающиеся разных моральных убеждений», — объяснил Дженсен. «Но позиция, согласно которой разные, даже противоречащие друг другу моральные взгляды в каком-то смысле одинаково верны или верны.Моральные истины или факты варьируются от человека к человеку и от группы к группе ».
Томас Нагель в книге Взгляд из ниоткуда подчеркивает трудности философов в борьбе с идеями морального релятивизма. «Это больше, чем обычное желание превзойти своих предшественников, поскольку оно включает в себя бунт против самого философского импульса, который воспринимается как унизительный и нереалистичный», — цитирует Дженсена. Он продолжил, выразив трудность теоретической проблемы моральной относительности: «Очень трудно дать правильную и убедительную теорию морали.”
Существует два типа практического морального релятивизма: индивидуальный и культурный. Индивидуальный моральный релятивизм — это идея о том, что ценности варьируются от человека к человеку, и у каждого человека есть свой собственный действующий набор моральных принципов. Нет концепции правильных моральных принципов; все основано на желаниях человека.
Проблема с индивидуальным моральным релятивизмом в том, что ему не хватает концепции руководящих принципов правильного или неправильного. «Один из пунктов морали — направлять нашу жизнь, говорить нам, что делать, чего желать, против чего возражать, какие качества характера развивать, а какие не развивать», — сказал Дженсен.Если мораль уже основана на личном желании, продолжил он, невозможно дистанцироваться от ситуации, чтобы найти действительно объективную моральную основу и принять решение, основанное на том, что правильно.
Культурный релятивизм предполагает, что «культура имеет различные стандарты, и они составляют мораль». Эта точка зрения решает проблему руководства, но также поднимает проблему, которую большинство людей отождествляет с несколькими различными культурами, которые могут иметь противоположные ценности. Также существует проблема терпимости.Хотя мыслители культурного релятивизма убеждены в том, что неправильно навязывать свои собственные культурные ценности другим, в некоторых культурах главной ценностью является нетерпимость.
Примером, приведенным Дженсеном, были религиозные экстремистские группы. В таких случаях группы часто придерживаются морального принципа уничтожения культур, отличных от их собственной, тем самым опровергая представление о том, что культурный релятивизм всегда терпим. Дженсен объяснил, что для того, чтобы толерантность стала истинной частью культурного релятивизма, «толерантность должна рассматриваться как универсальная моральная ценность», которая больше не относительна.
Есть и другие проблемы с культурным релятивизмом. «[Проблема культурного релятивизма] заключается в том, что что-то одновременно является правильным и неправильным», — сказал Дженсен. «Категория культуры недостаточно точна, чтобы выполнять работу морали, потому что это некий вид обобщения».
— Ханна Сандорф (бакалавр искусств и кураторских исследований ’17)
Ханна освещает мероприятия факультета философии гуманитарного колледжа.Она учится на младших курсах, изучает историю искусств с незначительной степенью в искусстве.
Изображение Дэвида Дженсена
Этический релятивизм — PLATO — Организация по изучению и преподаванию философии
Инструментальный текст
Моральный релятивизм
Многие студенты приходят в класс, считая, что значения не совпадают. Вы слышали что-нибудь из следующего?
- Ведь все мы разные, правда?
- Не было бы скучно, если бы мы все верили в одно и то же?
- Каждому свое!
- Отмечать разнообразие?
- Кто я такой, чтобы судить кого-то еще, если он считает, что поступает правильно?
Это общие убеждения и утверждения, часто исходящие из хорошего места: желание быть непредубежденным и принимать других.И действительно, во многих сферах нашей жизни мы должны признать, что разнообразие является просто культурным, религиозным или личным. Могу ли я заставить вас согласиться с тем, что синий — лучший цвет или что брокколи вкусная? Бьюсь об заклад, нет!
Итак, где мы находимся, когда речь идет об этических ценностях? Этический релятивизм утверждает, что все ценности зависят от того, во что люди верят или принимают, а не только от вкусовых качеств, таких как еда и цвета. Посмотрите видео, размещенное внизу; он предлагает несколько отличных уточняющих определений.Попросите ваших учеников посмотреть это видео, а затем обсудить, что они думают о ценностях.
Вопросы для обсуждения после видео:
- Согласны ли вы с тем, что все ценности зависят от того, что принимает культура? Или во что верит и чувствует человек?
- Может ли кто-нибудь придумать ценность, которую они назвали бы универсальной?
Деятельность
Составьте список убеждений и практик, утверждающих, что X или Y — это хорошо / плохо.Посмотрите на каждый из них, чтобы убедиться, что все согласны с тем, что этот пример действительно относительный, или некоторые из примеров могут быть более проблематичными. Примеры приведены ниже.
| Значение | Истинный родственник | Без родственников | Почему? |
| Собака ест | |||
| Детские браки | |||
| FGM | |||
| Добрачный секс | |||
| Избиение детей за дисциплину | |||
| рабство | |||
| Еда руками | |||
Мыслить дальше, внимательно читая
Луи Пойман написал превосходный анализ морального релятивизма и того, почему он не может считаться жизнеспособной моральной теорией.Его эссе «Защита этического объективизма» во многих местах было антологизировано. Получите копии для студентов. [Недоступно в Интернете]
В этом эссе он обрисовывает аргументы в пользу релятивизма и шаг за шагом показывает как следствия, вытекающие из этой позиции, так и то, почему сам аргумент не является правильным. Затем он строит аргументы в пользу морального объективизма, апеллируя в основном к принципам prima facie. В конце он исследует, почему мы считаем моральный релятивизм такой привлекательной теорией.
Это трудное эссе, и старшеклассникам понадобится время, чтобы проработать его, и руководство в процессе.
Релятивизм — Философия — Oxford Bibliographies
Имеется множество полезных сборников статей по релятивизму. Hales 2011 является наиболее актуальным и исчерпывающим из них, а Krausz 2010 содержит всесторонний обзор недавних и классических дискуссий о релятивизме. Гарсия-Карпинтеро и Кёльбель 2008 предлагают четкий путь к недавнему аналитическому семантическому релятивизму, а Брогард 2009 предлагает хороший образец современной работы. Более старые коллекции, такие как Hollis and Lukes 1982 и Wilson 1970, отражают интерес к релятивизму в отношении рациональности и того, как разные культуры могут иметь альтернативные концептуальные схемы.Krausz and Meiland 1982 — полезный сборник классических работ. Вилла и др. 2010 год является хорошим представителем современной работы по релятивизму в неанглоязычном контексте.
Brogaard, Berit, ed. Специальный выпуск: Относительная правда . Synthese 166,2 (январь 2009 г.).
Специальный выпуск, посвященный релятивизму, с информативным введением Брогарда и разделами, посвященными контексту и семантическому содержанию, открытому будущему, а также эпистемическому и моральному релятивизму.
Гарсия-Карпинтеро, Мануэль и Макс Кельбель, ред. Относительная правда . Оксфорд: Oxford University Press, 2008.
DOI: 10.1093 / acprof: oso / 9780199234950.001.0001
Сборник, представляющий работы «нового» релятивизма, связанные с аналитической философией языка и сосредоточенные на вопросах семантики. Имеет отличное введение и эссе с критикой проекта.
Хейлз, Стивен Д., изд. Соратник релятивизма .Чичестер, Великобритания: Wiley-Blackwell, 2011.
. DOI: 10.1002 / 9781444392494
Содержит статьи многих ведущих современных авторов по этой теме. Включает разделы по определению релятивизма, видов релятивизма, релятивизма в отношении эпистемологии, этики, философии науки, логики, математики и онтологии.
Холлис, Мартин и Стивен Льюкс, ред. Рациональность и релятивизм . Oxford: Blackwell, 1982.
В этом сборнике есть статьи, относящиеся к релятивизму в отношении рациональности, в том числе статьи Барнса и Блура 1982 г. (цитируются в разделе «Релятивизм в отношении рациональности»).
Krausz, Michael, ed. Релятивизм: современная антология . Нью-Йорк: Columbia University Press, 2010.
Содержит тридцать три статьи, включая более старые статьи, такие как Davidson 2010 и Harman 2010 (обе цитируются в разделе «Моральный релятивизм»), а также важные недавние работы, такие как выдержки из Boghossian 2006 (цитируются в обзорах), MacFarlane 2005 (цитируется в разделе «Определение релятивизма») и Wright 2006 (цитируется в разделе «Семантический релятивизм»). Отличный сборник работ по релятивизму.
Краус, Майкл и Джек Мейланд, ред. Релятивизм: когнитивное и моральное . Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1982.
Содержит классические статьи по когнитивному релятивизму, такие как Davidson 2010 (процитировано в разделе «Релятивизм о рациональности») и Swoyer 1982 (процитировано в разделе «алетический релятивизм»), а также хорошие вводные статьи по моральному релятивизму, такие как как Williams 2010 и Harman 2010 (оба цитируются в разделе «Моральный релятивизм»).
Вилла, Витторио, Джорджо Маньячи, Джорджо Пино и Альдо Скьявелло. Il Relativismo : Temi e prospettive . Rome: Aracne, 2010.
Сборник, посвященный истории релятивизма, определяя релятивизм, семантический релятивизм, безупречное несогласие, ценностный плюрализм, релятивизм и фаллибилизм, а также релятивизм и прагматизм, среди других тем. На итальянском.
Уилсон, Брайан Р., изд. Рациональность . Oxford: Blackwell, 1970.
Полезный сборник классических текстов, относящихся к релятивизму о рациональности, включая Winch 1970 и Lukes 1970 (оба цитируются в разделе «Релятивизм о рациональности»).
Релятивизм — Заключение — Кембридж, Философия, Пресса и Университет
Нормативный релятивизм в данной области рекомендует терпимость к практикам, которые соответствуют альтернативным стандартам, преобладающим в этой области. Парадигма приемлемой терпимости, несомненно, относится к этикету. Здесь у нас есть основания для оправданного и основательного релятивизма. И здесь релятивистские доктрины, которые мы обсуждали, подходят: ясные суждения о том, что практики в другой культуре, соответствующие преобладающим там стандартам этикета, являются грубыми, действительно вызывают недоумение.Что могут означать такие суждения? Верно и то, что такие суждения не имеют смысла и что нам не следует пытаться ими заниматься. Но что отличает этикет от других сфер, так это то, что он не играет роли в нашем мышлении и поведении. Мы можем поддерживать свои манеры, даже если воспринимаем их со стороны как просто один из стандартов этикета среди других. Когда мы обращаемся к утверждениям о том, что представляет собой ценность или что является рациональным, например, сам предмет обсуждения поднимает ставки. Когда ставки повышаются, мы, кажется, менее способны принимать внешнюю точку зрения, сохранять свои взгляды на то, что морально стоит делать или во что разумно верить.Будущая работа над релятивизмом, несомненно, принесет новые взгляды на такие трудности.
БИБЛИОГРАФИЯКоэн, Стюарт. «Как быть фаллибилистом». Философские перспективы 2 (1988): 91–123.
———. «Знание и контекст». Философский журнал 83 (1986): 575–583.
ДеРоуз, Кит. «Решение скептической проблемы». Philosophical Review 104 (1995): 1–52.
Фельдман, Ричард. Эпистемология. Верхняя Сэдл-Ривер, Нью-Джерси: Прентис-Холл, 2003.
Гиббард, Алан. Думая, как жить. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета, 2003.
Харман, Гилберт. «Моральный релятивизм защищен». Philosophical Review 84, нет. 1 (1975): 3–22.
Харман, Гилберт и Дж. Дж. Томсон. Моральный релятивизм и моральная объективность. Нью-Йорк: Блэквелл, 1996.
Льюис, Дэвид. «Неуловимое знание». Австралазийский философский журнал 74 (1996): 549–567.
Маки, Дж. Л. Этика: изобретая правильное и неправильное. Нью-Йорк: Пингвин, 1977 г.
Ролз, Джон. Теория справедливости. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета, 1971.
Scanlon, T. M. Чем мы обязаны друг другу. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета, 1998.
Стич, Стивен П. «Эпистемический релятивизм». В энциклопедии философии Рутледжа , отредактировал Эдвард Крейг. Vol. 3. Нью-Йорк: Рутледж, 1999.
Вальцер, Майкл. Интерпретация и критика. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета, 1987.
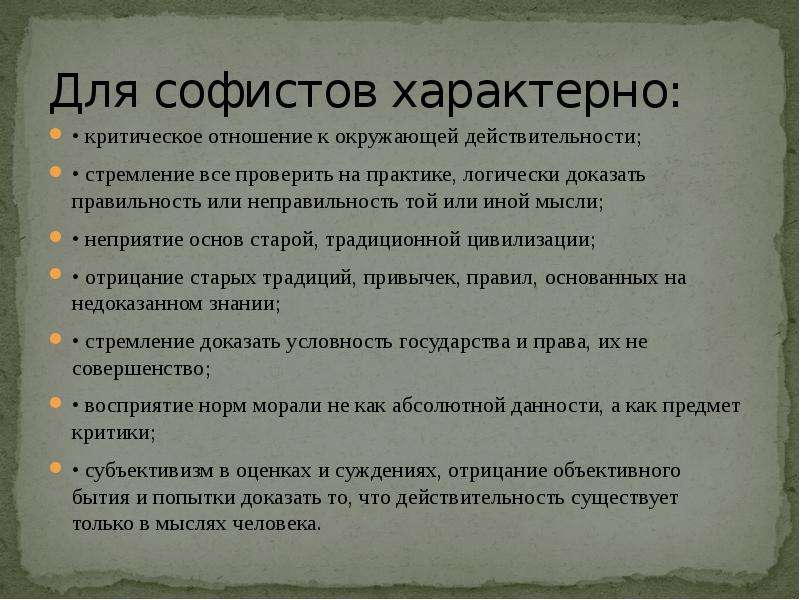 проблематика и Содержание Ф. и….
проблематика и Содержание Ф. и….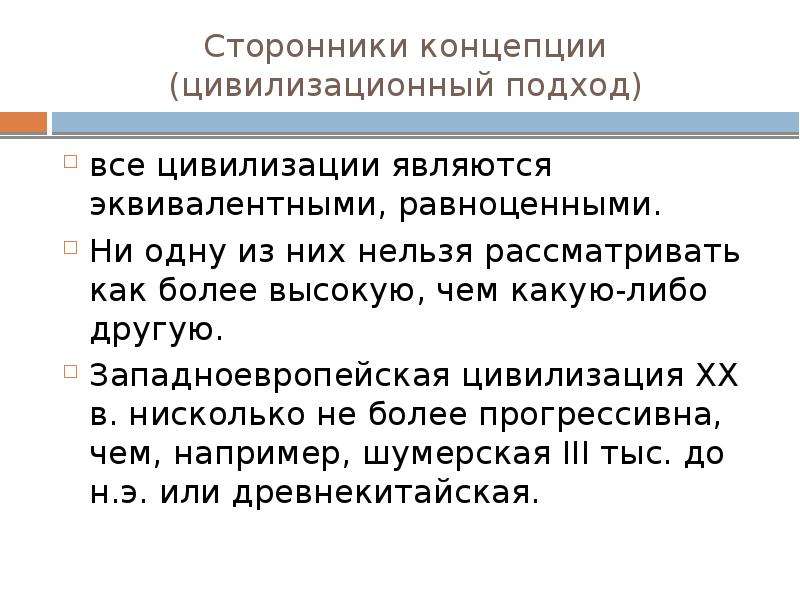 Тарского D. 2, усиленные моей теорией приближения к истине, могут способствовать радикальному лечению этой болезни. Конечно, для этой цели могут потребоваться и другие средства, например, неавторитаркая теория познания, развитая в некоторых моих работах D. 3. Во-вторых, я попытаюсь продемонстрировать (в разделе 12 и следующих), что положение в мире норм — особенно в его моральной и политической сферах — в чём-то схоже с положением, сложившимся в мире фактов.
Тарского D. 2, усиленные моей теорией приближения к истине, могут способствовать радикальному лечению этой болезни. Конечно, для этой цели могут потребоваться и другие средства, например, неавторитаркая теория познания, развитая в некоторых моих работах D. 3. Во-вторых, я попытаюсь продемонстрировать (в разделе 12 и следующих), что положение в мире норм — особенно в его моральной и политической сферах — в чём-то схоже с положением, сложившимся в мире фактов. Ответ на этот вопрос не труден — и это неудивительно, особенно если учесть, что любой судья предполагает наличие у свидетеля знания того, что означает истина (в смысле соответствия фактам). Более того, искомый ответ оказывается почти что тривиальным.
Ответ на этот вопрос не труден — и это неудивительно, особенно если учесть, что любой судья предполагает наличие у свидетеля знания того, что означает истина (в смысле соответствия фактам). Более того, искомый ответ оказывается почти что тривиальным. Если вы вглядитесь в неё снова и на этот раз более внимательно, то увидите, что в ней говорится [1] о высказывании, [2] о некоторых фактах и в ней формулируются [3] вполне ясные условия, выполнение которых необходимо для того, чтобы указанное высказывание соответствовало указанным фактам. Тем же, кто считает, что набранная курсивом фраза слишком тривиальна или слишком проста для того, чтобы сообщить нам что-либо интересное, следует напомнить: поскольку каждый (пока не задумывается над этим) знает, что имеется в виду под истиной или соответствием фактам, то наше прояснение этого должно быть в некотором смысле также тривиальным.
Если вы вглядитесь в неё снова и на этот раз более внимательно, то увидите, что в ней говорится [1] о высказывании, [2] о некоторых фактах и в ней формулируются [3] вполне ясные условия, выполнение которых необходимо для того, чтобы указанное высказывание соответствовало указанным фактам. Тем же, кто считает, что набранная курсивом фраза слишком тривиальна или слишком проста для того, чтобы сообщить нам что-либо интересное, следует напомнить: поскольку каждый (пока не задумывается над этим) знает, что имеется в виду под истиной или соответствием фактам, то наше прояснение этого должно быть в некотором смысле также тривиальным.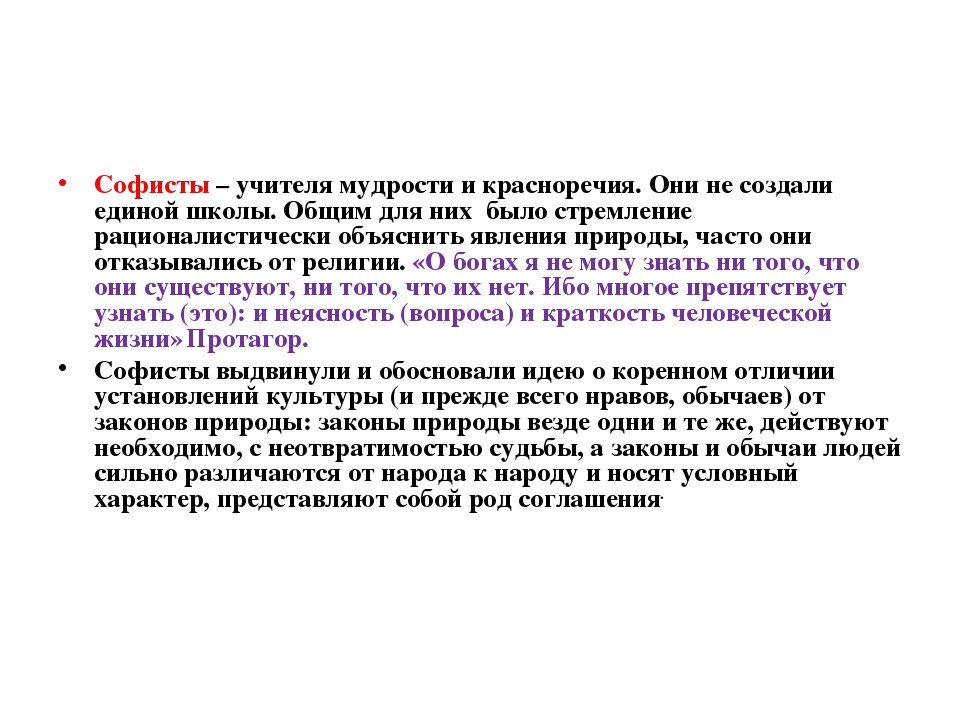 Возможно, что некоторым покажется более приемлемой следующая формулировка этой фразы: Сделанное свидетелем заявление «Я видел, как Смит входил в ломбард чуть позже 10.15» истинно, если и только если свидетель видел, как Смит вошёл в ломбард чуть позже 10.15.
Возможно, что некоторым покажется более приемлемой следующая формулировка этой фразы: Сделанное свидетелем заявление «Я видел, как Смит входил в ломбард чуть позже 10.15» истинно, если и только если свидетель видел, как Смит вошёл в ломбард чуть позже 10.15.
 Это различение имеет очень общий характер и, как мы увидим далее, очень важно для оценки релятивизма.
Это различение имеет очень общий характер и, как мы увидим далее, очень важно для оценки релятивизма.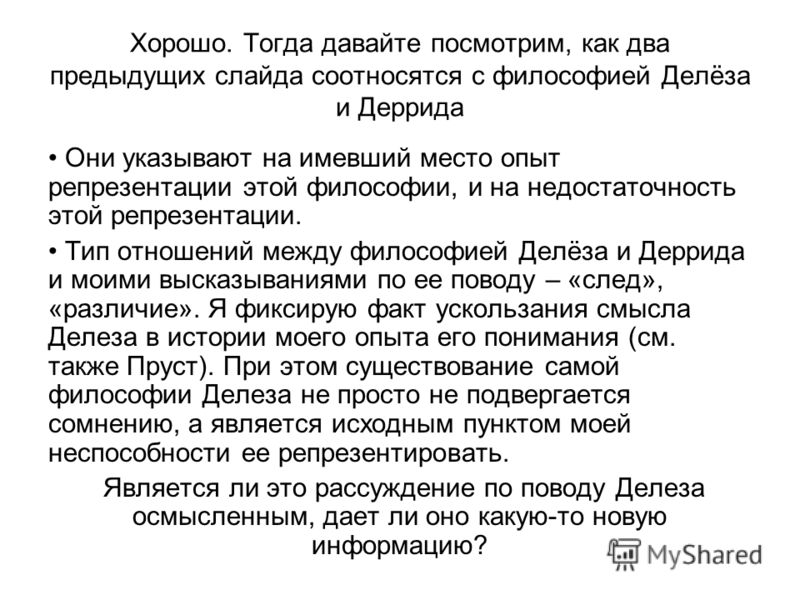
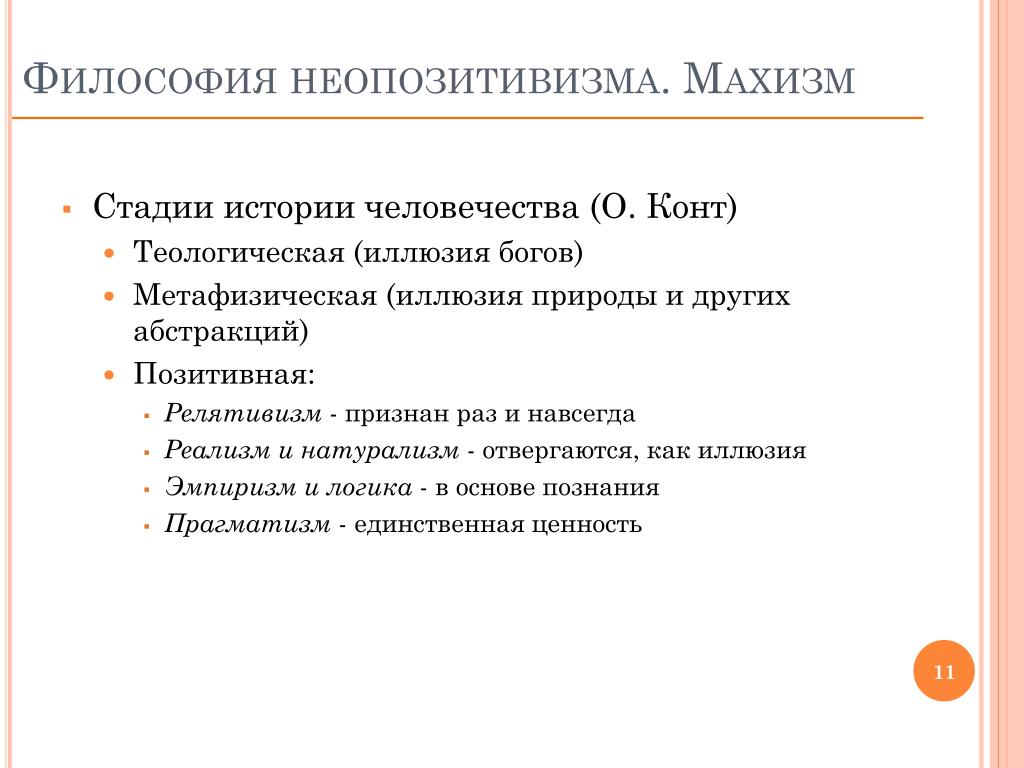
 Верно и то, что существует не так уж много болезней, если таковые вообще есть, для распознавания которых в нашем распоряжении имеются критерии или хотя бы чёткие определения. Кроме того, немногие критерии, если они вообще существуют, являются надёжными (если же они ненадёжны, то их лучше не называть «критериями»).
Верно и то, что существует не так уж много болезней, если таковые вообще есть, для распознавания которых в нашем распоряжении имеются критерии или хотя бы чёткие определения. Кроме того, немногие критерии, если они вообще существуют, являются надёжными (если же они ненадёжны, то их лучше не называть «критериями»). Философию такого рода можно назвать «философией критериев». Основное требование философии критериев обычно невыполнимо, а потому, как нетрудно понять, приняв философию критериев, мы во многих случаях приходим к полному разочарованию, релятивизму и скептицизму.
Философию такого рода можно назвать «философией критериев». Основное требование философии критериев обычно невыполнимо, а потому, как нетрудно понять, приняв философию критериев, мы во многих случаях приходим к полному разочарованию, релятивизму и скептицизму.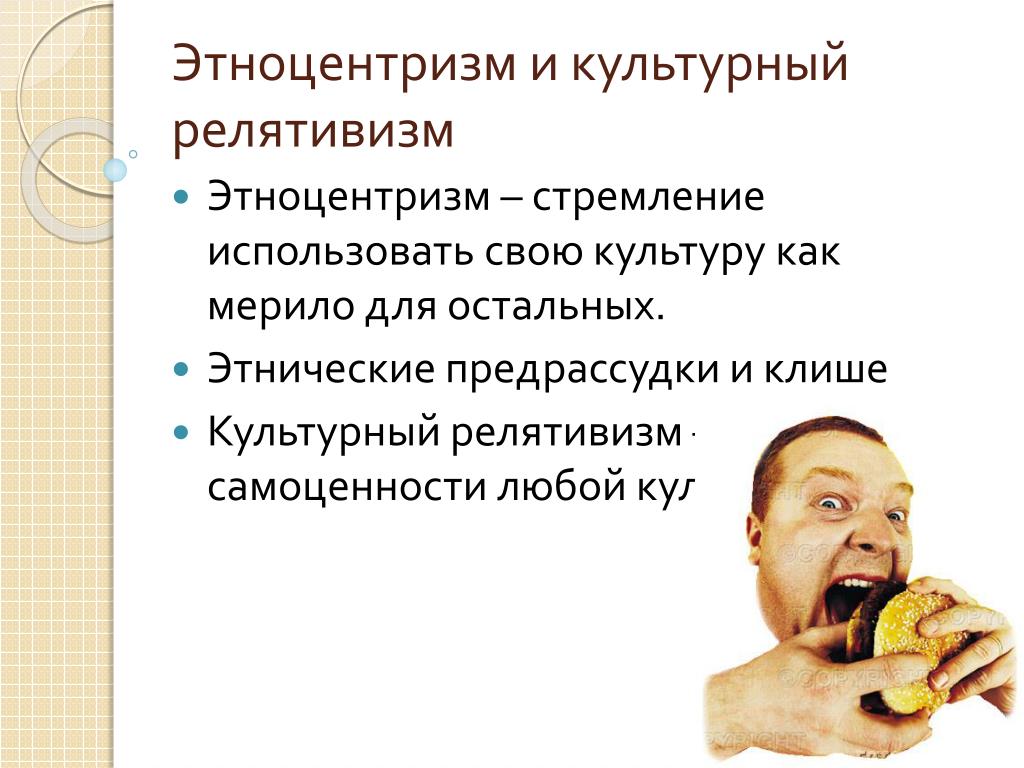 Этот результат можно точно обосновать, причём такое обоснование использует понятие истины как соответствия фактам.
Этот результат можно точно обосновать, причём такое обоснование использует понятие истины как соответствия фактам.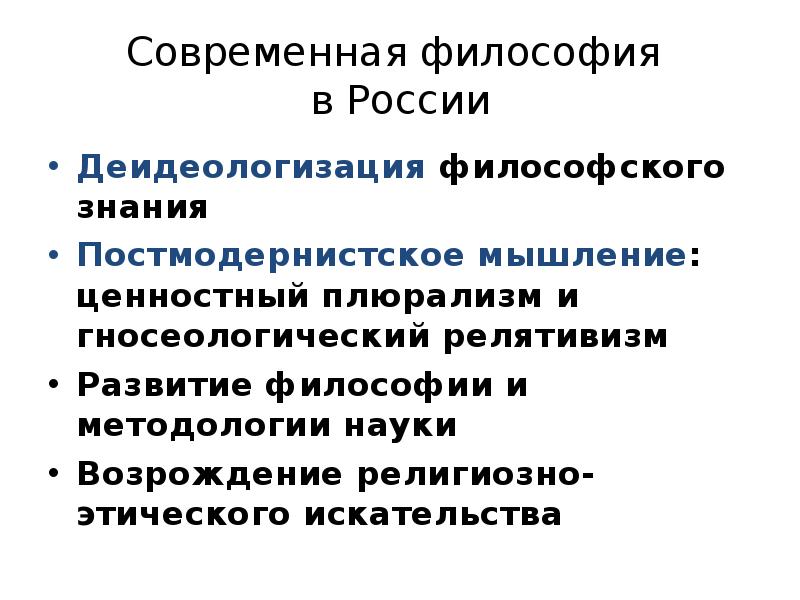 Естественно, что этот результат применим a fortiori к понятию истины в любой нематематической области знания, в которой, тем не менее, широко используется арифметика.
Естественно, что этот результат применим a fortiori к понятию истины в любой нематематической области знания, в которой, тем не менее, широко используется арифметика.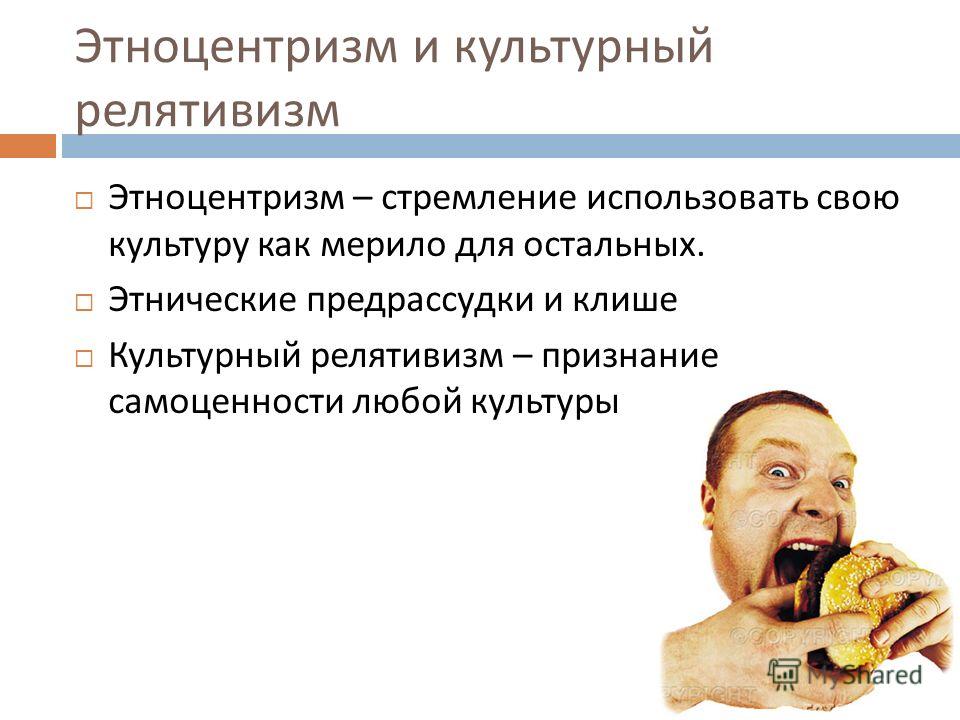 5).
5).

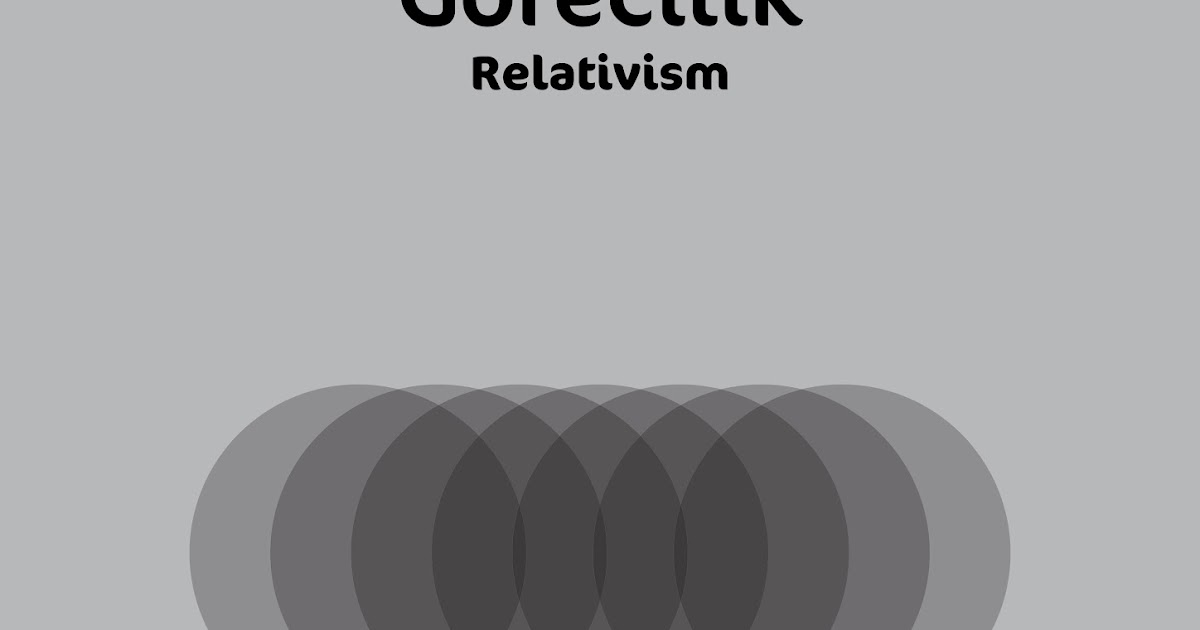 В этом нетрудно убедиться, если задуматься о том, что все известные из истории примеры человеческой погрешимости, включая все известные примеры судебных ошибок, являются вехами прогресса нашего познания. Каждый раз, когда нам удаётся обнаружить ошибку, наше знание действительно продвигается на шаг вперёд. Как говорит в «Жане Баруа» Р. Мартен дю Гар: «Это уже шаг вперёд. Пусть мы не обнаружили истины, но зато уверенно указали, где её не следует искать» D. 6) Открытие тяжёлой воды, если возвратиться к нашему примеру, показало, что ранее мы глубоко заблуждались. При этом прогресс нашего знания состоял не только в отказе от этого заблуждения. Сделанное Г. Юри открытие в свою очередь было связано с другими достижениями, которые породили новые продвижения вперёд. Следовательно, мы умеем извлекать уроки из наших собственных ошибок.
В этом нетрудно убедиться, если задуматься о том, что все известные из истории примеры человеческой погрешимости, включая все известные примеры судебных ошибок, являются вехами прогресса нашего познания. Каждый раз, когда нам удаётся обнаружить ошибку, наше знание действительно продвигается на шаг вперёд. Как говорит в «Жане Баруа» Р. Мартен дю Гар: «Это уже шаг вперёд. Пусть мы не обнаружили истины, но зато уверенно указали, где её не следует искать» D. 6) Открытие тяжёлой воды, если возвратиться к нашему примеру, показало, что ранее мы глубоко заблуждались. При этом прогресс нашего знания состоял не только в отказе от этого заблуждения. Сделанное Г. Юри открытие в свою очередь было связано с другими достижениями, которые породили новые продвижения вперёд. Следовательно, мы умеем извлекать уроки из наших собственных ошибок.