Психологические особенности подражания.
Подражание принадлежит к одному из самых массовых проявлений человека в общении. Под ним в социальной психологии понимают повторение и воспроизведение одним человеком действий, поступков, жестов, манер, интонаций другого человека и даже копирование определенных черт его характера и стиля жизни.
Подражание подразумевает определенную эмоциональную и рациональную направленность. Оно бывает как сознательным, так и бессознательным.
Человек
сознательно подражает навыкам мастерства,
эффективным способам общения и
деятельности, рациональным приемам
выполнения трудовых действий и операций
— все то, что кажется ему правильным и
полезным. Речь идет о целенаправленном
проявлении активности индивида в
процессе подражания, который является
следствием собственной инициативы,
собственного желания.
Конечно, подражание приобретает характер бессознательного при условии, когда человек проявляет активность как результат влияния других людей, которые рассчитывают на такую реакцию индивида и стимулируют его активное поведение различными средствами. Подражание является одним из важных механизмов социализации личности, одним из способов обучения и воспитания.
В процессе развития ребенка подражание приобретает особое значение. Именно поэтому у детской, возрастной и педагогической психологии осуществляется большинство научно-прикладных исследований по этой проблематике.
Психологические
механизмы подражания у взрослых гораздо
сложнее, чем в детском и подростковом
возрасте, из-за того, что в настоящее
время они наталкиваются на критичность
личности.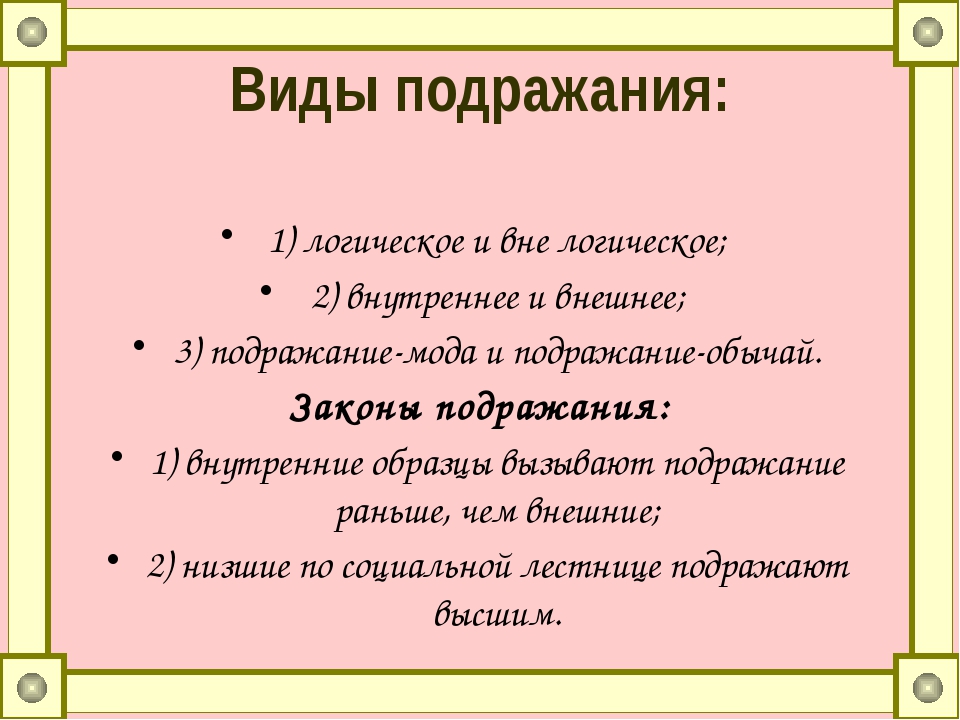 Подражание во взрослом возрасте
становится элементом обучения в
определенных видах профессиональной
деятельности, таких как спорт, искусство
и т. д.
Подражание во взрослом возрасте
становится элементом обучения в
определенных видах профессиональной
деятельности, таких как спорт, искусство
и т. д.
Конечно, в любой возрастной категории проблема подражания как влияния не может рассматриваться как однонаправленное движение информации, образцов поведения от индуктора к реципиенту.
Всегда происходит, хоть минимальный, но обратный процесс — от реципиента к индуктору.
Понятно, что нельзя сводить подражание лишь к одностороннему акту автоматического и бессознательного повторения заданного внешнего образца поведения, действия, жеста и т. п.
Следует рассматривать это сложное социально-психологическое явление в единстве феноменов, которыми являются слепое копирование, абсолютное повторение и творческое воспроизведение того или иного примера.
Мода как массово-коммуникационное явление. Психологические особенности моды.
Одна
из первых попыток определения не моды
вообще, а самого внутреннего механизма
развития моды встречается уже у немецкого
философа И. Канта в достаточно известном
сочинении «О вкусе, отвечающем моде».
В этой работе великий мыслитель писан:
«Закон этого подражания (стремления) —
казаться не менее значительным, чем
другие, и именно это, причем не принимается
во внимание какая-либо польза, называется
модой». Подчеркнем, что это просто
подражание без всякой пользы. Кант
полагал, что в моде нет никакой внутренней
цели, и относил ее к «рубрике тщеславия».
Канта в достаточно известном
сочинении «О вкусе, отвечающем моде».
В этой работе великий мыслитель писан:
«Закон этого подражания (стремления) —
казаться не менее значительным, чем
другие, и именно это, причем не принимается
во внимание какая-либо польза, называется
модой». Подчеркнем, что это просто
подражание без всякой пользы. Кант
полагал, что в моде нет никакой внутренней
цели, и относил ее к «рубрике тщеславия».
Для
того чтобы стать массовым, т. е. включить
действие второго компонента психологического
механизма моды — механизма массового
подражания, новое должно соответствовать
ряду условий. Из уже сказанного следует,
что велика роль такого условия, как
престижность чего-то нового. Действительно,
стремление приобщиться к некой престижной
общности — один из важных механизмов
человеческого поведения. Однако престиж
— очень трудно определимый и явно далеко
не единственный механизм. Престижем
люди наделяют тех, кто, по их оценкам,
принадлежит к референтной для них
группе.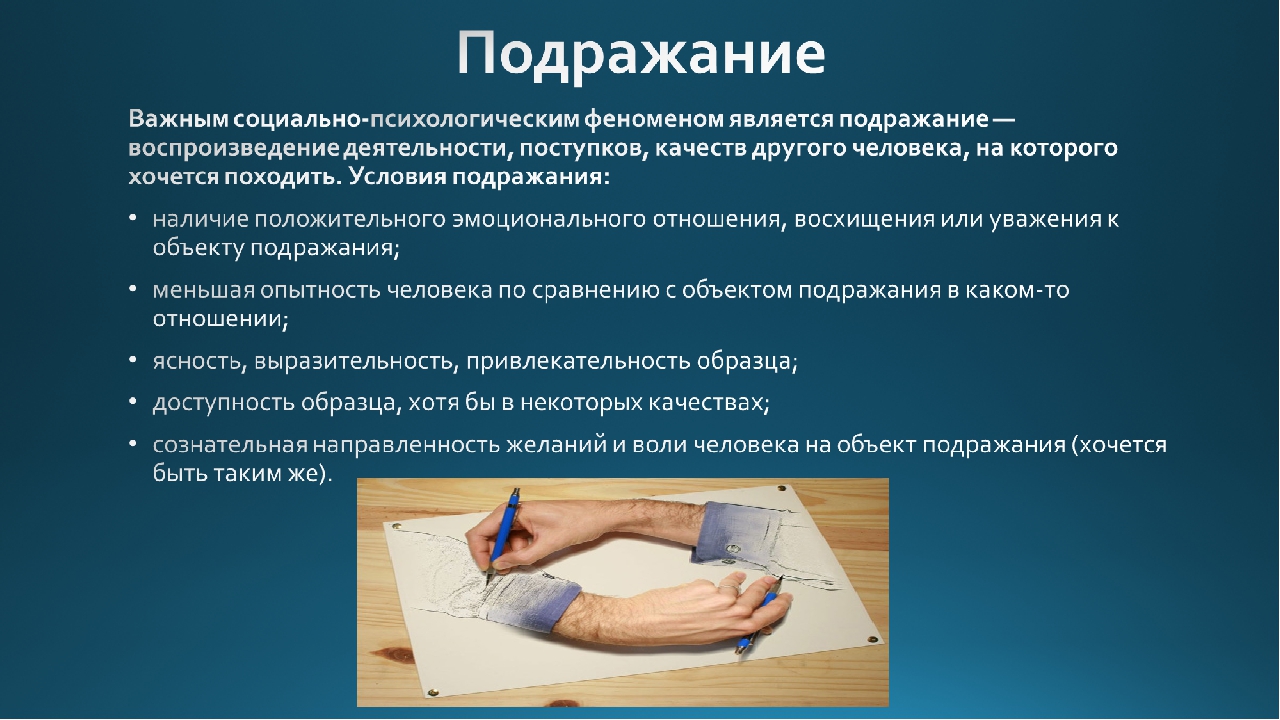
Другая основа — определенная утилитарность того, чему начинают подражать, и что становится предметом массовой моды. Возьмем хотя бы пресловутые джинсы. За ними едва ли стоял какой-то особый престиж. Джинсы стали модными во всем мире прежде всего по причине своей очевидной удобности и практичности.
Нельзя
исключать и эстетическую основу,
безусловно, привлекающую значительные
общности. Речь идет не об элитной моде
в искусстве, — скорее, это массовая мода
на то, что представляется красивым в
быту, в повседневной жизни. Сам факт
развития и совершенствования, например,
промышленного дизайна подтверждает
это.
Сам факт
развития и совершенствования, например,
промышленного дизайна подтверждает
это.
Еще одна основа — целенаправленное действие механизмов заражения, используемых рекламой и массовой коммуникацией в целом. Здесь уже не имеет особого значения ни престиж, ни практичность: реклама придумает и то и другое, и сама «включит» механизмы массового подражания.
Подражание. Что такое «Подражание»? Понятие и определение термина «Подражание» – Глоссарий
Подражание – механизм копирования, направленный на соответствие определенному образцу. Впервые понятие появляется в учениях античных философов – в частности, Аристотеля, который рассматривал подражание как нечто свойственное человеческой природе и проявляющееся в ней гораздо сильнее, чем это происходит у животных. Благодаря подражанию человек получает свои первые знания, причем этот процесс может доставлять удовольствие, даже когда предмет подражания безобразен. Понятие легло в основу философско-эстетического учения о мимесисе, которое раскрывает специфику отношений реального мира и художественного.
Современные исследователи уделяют подражательному процессу особое внимание в рамках изучения социальной психологии. Подражание понимается как способ воздействия, при котором объект влияния по собственной инициативе пытается соответствовать образу, спроектированному воздействующим на него субъектом, причем последний об этом может не знать. Однако возможна и ситуация, когда субъект требует от объекта следования подражательным механизмам. Подражание может проявляться на разных этапах человеческой жизни. Впервые подражательные процессы реализуются в младенчестве – через подражание звукам и движениям устанавливается контакт с окружающей средой. В детстве индивид моделирует человеческую деятельность через игру. В юности подражание проявляется в стремлении подростка соотносить себя с определенной группой или своим кумиром. В зрелом возрасте – в профессиональной деятельности.
Феномен подражания: как массовые убийства провоцируют преступников | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW
Мюнхенский стрелок нанес удар 22 июля — ровно в этот день пять лет назад правый радикал Андерс Брейвик убил в Норвегии 77 человек. Нельзя исключать, что для Давида Али С., который в прошлую пятницу расстрелял в Мюнхене девять человек, Брейвик стал примером для подражания.
Ясно одно: массовые убийства часто влекут за собой аналогичные преступления. Это подтверждают прежде всего данные из США, где фатальные последствия таких расстрелов не редкость. По статистике, массовые убийства, при которых погибает по меньшей мере четыре человека, происходят там каждые 12,5 дней.
Американский математик Шерри Тауэрс из Государственного университета Аризоны пыталась выяснить, существует ли между этими преступлениями какая-то взаимосвязь. Для этого она изучила 438 случаев массовых убийств, произошедших в период с февраля 2005 года по январь 2013-го на всей территории США.
Фатальная цепочка
«Мы видим характерные свидетельства того, что убийства с использованием стрелкового оружия и по меньшей мере четырьмя погибшими были спровоцированы аналогичными преступлениями, произошедшими незадолго до этого», — пишет она. Наиболее высокая опасность сохраняется в течение тринадцати дней после преступления: именно в это время риск его повторения возрастает на 22 процента.
Мюнхенский стрелок совершил преступление в тот же день, что и норвежский убийца Андерс Брейвик
При этом совершенные массовые убийства во многом зависели от того, насколько доступным было оружие, пришла к выводу исследовательница. По ее словам, в США опасность расстрела подростков в пять раз выше, чем в других развитых странах: 87 процентов убитых из стрелкового оружия в возрасте до 14 лет проживали именно в Соединенных Штатах.
По ее словам, в США опасность расстрела подростков в пять раз выше, чем в других развитых странах: 87 процентов убитых из стрелкового оружия в возрасте до 14 лет проживали именно в Соединенных Штатах.
Сравнительно меньшую роль в совершении преступлений играли психические заболевания. Тем серьезнее было влияние освещения таких случаев в СМИ, ведь эти сообщения могли сознательно или бессознательно подтолкнуть подростков к подражанию, отмечает Тауэрс. «Такая форма заразительного мышления вполне возможна, — утверждает эксперт. — Психически неустойчивые подростки могут оказаться восприимчивыми к идее самоубийства, если раньше об этом сообщали в СМИ». Вместе с тем оказалось, что сообщения об убийствах и самоубийствах приводят к росту числа таких преступлений, добавляет Шерри Тауэрс.
Сила картинки
Американский антрополог и социолог Лорен Коулман тоже считает, что на СМИ лежит большая ответственность. Поэтому, констатирует он, при освещении массовых убийств нужно внимательно следить за выбором слов. Не стоит, например, употреблять выражения вроде «неудавшаяся» попытка самоубийства или навешивать такие ярлыки, как «милый соседский парень» или «одинокий сумасшедший», подчеркивает Коулман, написавший книгу об убийцах-подражателях.
Не стоит, например, употреблять выражения вроде «неудавшаяся» попытка самоубийства или навешивать такие ярлыки, как «милый соседский парень» или «одинокий сумасшедший», подчеркивает Коулман, написавший книгу об убийцах-подражателях.
СМИ должны с осторожностью освещать массовые убийства, убеждают ученые
На силу картинки указывает и социолог Зейнеп Туфекчи, преподающая в Принстонском университете. По ее словам, вооруженные террористы или массовые убийцы создавали впечатление власти, тем самым провоцируя желание им подражать. Поэтому, добавляет эксперт, СМИ должны проявлять особую сдержанность в работе с такими картинками, равно как и при обнародовании имени преступника. Публикация имени провоцирует всплеск популярности, которой как раз и желают возможные подражатели.
Преступление начинается перед экраном компьютера
В Германии исследованием проблемы массовых убийств занимаются относительно недавно. Такая работа началась только после того, как в 2002 году школьник Роберт Штайнхойзер (Robert Steinhäuser) расстрелял в своей гимназии в Эрфурте 16 человек, после чего застрелился сам.
Желание совершить подобное преступление вырабатывается, как правило, на протяжении нескольких месяцев, рассказывает криминолог Бритта Банненберг (Britta Bannenberg). Оно развивается главным образом перед экраном компьютера, когда подражатель идентифицирует себя со своим образцом и придумывает оправдание своему преступлению, объясняет она. «Он снова и снова читает о других преступниках, смотрит документальные фильмы и видеозаписи преступлений, играет в «стрелялки», чтобы представить себе, как будет действовать сам», — констатирует Банненберг.
По ее словам, таким людям просто необходимы СМИ, потому что в них доступна информация о предыдущих преступлениях: «Они играют важную роль, поскольку побуждают к идентификации. Речь всегда идет об идентификации с преступниками и образцами для подражания, совершившими похожие преступления».
«Жизнь во всей ее разобщенности и слабости»
Тем более важно противопоставлять отчасти сенсационным картинам с места преступления отрезвляющую информацию, пишет психолог Йенс Хоффман (Jens Hoffman) в исследовании о феномене массовых убийств. Он рекомендует объективно освещать такие преступления: «Если не демонизировать и не представлять невиновными молодых преступников, как, например, Роберт Штайнхойзер, их жизнь предстанет во всей ее разобщенности и слабости. В результате роль молодых преступников как образцов для подражания может заметно померкнуть».
Он рекомендует объективно освещать такие преступления: «Если не демонизировать и не представлять невиновными молодых преступников, как, например, Роберт Штайнхойзер, их жизнь предстанет во всей ее разобщенности и слабости. В результате роль молодых преступников как образцов для подражания может заметно померкнуть».
Смотрите также:
Повторюшки и чудики. Почему люди копируют друг друга и всегда ли это хорошо
В своих чудачествах Форрест Гамп не стремился прослыть оригиналом – он просто был самим собой. И внезапно стал примером для подражания. Кадр из фильма «Форрест Гамп». 1994
Как‑то раз я стал фотографировать из окна самолета закат. Люди, прекрасно видевшие этот закат и не обращавшие на него никакого внимания, вдруг начали громко восторгаться им и тоже его снимать.
Затем в другой части Boeing я проявил нездоровый интерес к странной гигантской ручке на стене самолете. Никаких табличек, надписей, картинок рядом с ней не было. Решив, что это поручень, я стал за него держаться прямо во время полета на 11 000 метров. И тут же на нем повисли дети, которым всю дорогу было на него плевать.
Никаких табличек, надписей, картинок рядом с ней не было. Решив, что это поручень, я стал за него держаться прямо во время полета на 11 000 метров. И тут же на нем повисли дети, которым всю дорогу было на него плевать.
Потом я узнал, что это был рычаг аварийного выхода… Несколько месяцев я гадал, почему мы с детьми не сгубили самолет. Потом одна знакомая стюардесса объяснила мне, что во время полета открыть этот выход физически невозможно: из‑за скорости под 1000 километров в час сопротивление снаружи слишком велико.
Случаи внезапного подражания происходят со мной сплошь и рядом. Люди сидят на спортплощадке, пьют, закусывают и на спортивные снаряды даже не смотрят. Прихожу, начинаю заниматься, отхожу в сторону – и тут люди тоже залезают на этот снаряд и как‑то тренируются.
В сафари‑парке в Тунисе мы начали фотографировать кактус с красивыми желтыми цветами. Другие туристы, даже не думавшие об этом кактусе, вдруг массово занимают очередь, чтобы тоже его снять. Хотя вокруг полно кактусов не хуже – и без очереди. Но дураков нет: раз движуха вокруг того кактуса, значит, его и надо снимать.
Хотя вокруг полно кактусов не хуже – и без очереди. Но дураков нет: раз движуха вокруг того кактуса, значит, его и надо снимать.
При входе в метро люди часто идут мощным потоком через одну и ту же дверь, хотя им там явно тесно. Другие двери кажутся им закрытыми на замок. Чтобы не ждать, я пробую открыть соседнюю дверь, вхожу в нее – и часть людей устремляется за мной. Примерно так же создаются новые социальные нормы…
Лет пять назад я попал в странную историю. У метро «Университет» в Москве люди долго не могли перейти Ленинский проспект. Светофор упорно показывал пешеходам красный, а машинам – зеленый. Сначала люди терпеливо ждали. Подумаешь, широкая улица, постоять пару минут нормально. Где‑то с третьей по пятую минуту лица людей стали выражать недоумение: «А где, собственно, зеленый?..»
Минуты с шестой все уже прекрасно понимали: светофор сломался. Но люди продолжали ждать, ничего не делая. А что тут сделаешь?. . Машины прут и прут широким потоком, причем быстро. Им зеленый. Подъезжая к перекрестку, они же не знают, что мы тут ждем уже больше пяти минут. И что, если они сами по доброй воле не остановятся, мы не перейдем вообще никогда. А значит, и к метро никогда не попадем. Дорожной полиции, разумеется, рядом не было. Видно, нашлись дела поинтереснее или повыгоднее.
. Машины прут и прут широким потоком, причем быстро. Им зеленый. Подъезжая к перекрестку, они же не знают, что мы тут ждем уже больше пяти минут. И что, если они сами по доброй воле не остановятся, мы не перейдем вообще никогда. А значит, и к метро никогда не попадем. Дорожной полиции, разумеется, рядом не было. Видно, нашлись дела поинтереснее или повыгоднее.
Все теряли терпение, но никто ничего не делал. И тут я решился на отчаянный шаг. Улучив момент, когда в сплошной колонне машин возникла недолгая пустота, я шагнул на проезжую часть. Увидев, что машины тормозят, я шагнул еще. И тут все 100 человек дружно ломанулись за мной, будто только и ждали этой возможности. Вся толпа перешла дорогу. Только кучка хипстеров заливалась смехом: «А‑а‑а, чего париться? Премся все на красный!» Видимо, они лишь недавно подошли, не знали, в чем дело, потому и глумились. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним», – подумал я. Они остались ждать зеленого, упустив эту драгоценную возможность.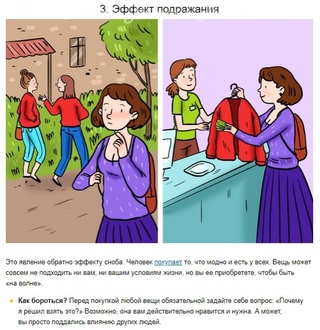 Я не знаю, сколько еще часов они ждали и в какой момент их смех сменился на слезы. «Горе от ума», – подумал я.
Я не знаю, сколько еще часов они ждали и в какой момент их смех сменился на слезы. «Горе от ума», – подумал я.
Этой осенью я увидел в метро девушку, красиво исполнявшую романтичную песню раннего Валерия Меладзе. Все равнодушно шли мимо, никто даже не смотрел. Я начал снимать певицу на видео. Вокруг стали собираться люди, певице начали подкидывать деньги. Конечно, раз снимают, значит, точно что‑то хорошее.
Мы даже не представляем себе, как сильно влияем на других людей как в мелочах, так и в важных жизненных стратегиях.
| Быть с большинством – безопасно, но скучно. Фото Pixabay |
 Если бы общество состояло целиком из нонконформистов, оно бы не смогло существовать. Каждый тянул бы в свою сторону. Крылова читали – «Лебедь, Щука и Рак»?».
Если бы общество состояло целиком из нонконформистов, оно бы не смогло существовать. Каждый тянул бы в свою сторону. Крылова читали – «Лебедь, Щука и Рак»?».
Как же на самом деле? Если бы первобытные люди всегда подвергали решения большинства сомнению и долгому критическому анализу, они бы просто вымерли. Представьте: вы просыпаетесь ночью от какого‑то шума, видите, что все куда‑то бегут, – и тут начинаете думать: «А зачем мне куда‑то бежать? Почему я должен быть, как все? Я что, стадо?.. Сперва разберусь, что к чему, а потом уже сам (! ) решу, что мне делать». В этом случае у вас есть все шансы быть убитым враждебным племенем или милыми и пушистыми, но очень голодными пещерными львами и саблезубыми тиграми. Ну, или никогда не перейти Ленинский проспект…
С другой стороны, если бы каждый пещерный человек твердо решил никогда ни в чем не выделяться, мы бы до сих пор жили в пещерах. Никакое развитие было бы невозможно.
Ученые установили, что на протяжении эволюции человеческие сообщества изгоняли как слишком грубых и агрессивных особей («быдло»), так и слишком продвинутых нонконформистов («интеллигенцию»). Первобытные сообщества традиционно были заточены под средних, «нормальных» обывателей. Они не нарушают покой, не подрывают стабильность и не разгибают скрепы ни чрезмерной наглостью и насилием, ни умничаньем и вечным «особым мнением».
Первобытные сообщества традиционно были заточены под средних, «нормальных» обывателей. Они не нарушают покой, не подрывают стабильность и не разгибают скрепы ни чрезмерной наглостью и насилием, ни умничаньем и вечным «особым мнением».
Что тут сказать? Не худший вариант, но, очевидно, и не лучший. Такая позиция не дает обществу опуститься и деградировать, но не дает особо и развиваться. Кто знает, может быть, именно поэтому активное культурное и техническое развитие человечества шло лишь последние несколько тысяч лет, когда ярких людей перестали постоянно гнобить, хотя сам человек существует на Земле уже 2,6 миллиона лет, а человек разумный – 200 тысяч лет.
Любопытно, что и сейчас наибольших успехов добиваются те цивилизации, где ценится индивидуальность (например, США, Канада, Австралия) или даже существует определенный культ чудачества (Британия). А наиболее отсталыми цивилизациями являются те, где даже минимально высунуться опасно для жизни (Северная Корея).
Впрочем, в обществе, где все норовят выпендриться, оригиналом будет тот, кто ведет себя естественно. «Почему ты не делаешь ни тату, ни пирсинг?» – «Хочу подчеркнуть свою индивидуальность».
Нельзя полностью игнорировать условности, так как в мире, на 85% состоящем из конформистов, это обойдется вам слишком дорого. Но не стоит быть и рабом условностей, молиться на них. Нужно понимать всю их относительность.
Так, в жизненных вопросах, где нет единственной истины, психологи определяют объективность как коллективную субъективность, то есть мнение большинства. Вторят им и психиатры. Норма, возглашают они, это статистическая типичность. Если в данное время в данном месте принято ходить по улице ногами, значит, нормален тот, кто ходит ногами. Если принято ходить на руках, значит, человек, идущий ногами, будет фриком и даже психом, которому лечиться надо. «Аптека за углом», – скажут ему тамошние журналисты.
Как говаривал Набоков, полезно помнить, что в определенном обществе в определенную эпоху каждый из нас был бы предан смертной казни строго по тогдашним законам и при полной поддержке тогдашнего большинства.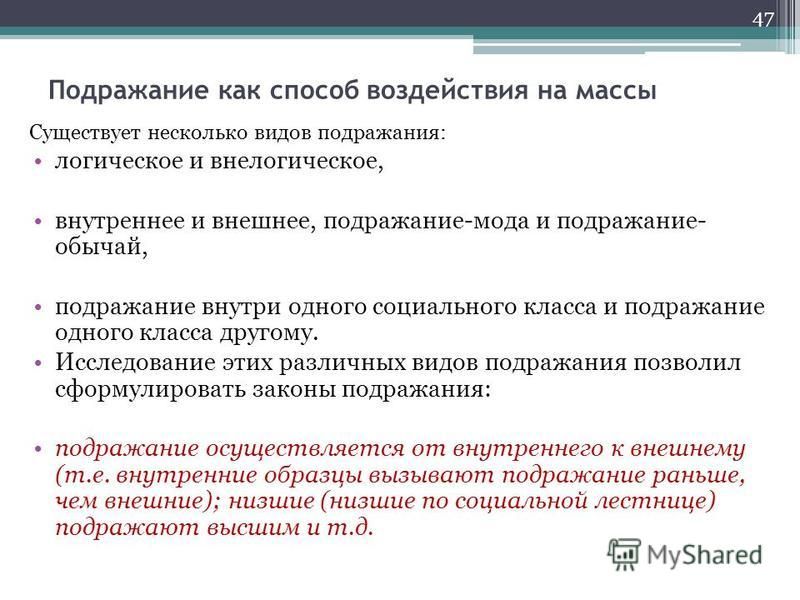
Быть всегда с большинством безопасно, но скучно, это путь к потере личности, к потере – или необретению – себя. Да и след в истории так оставить невозможно. Но и вечно противопоставлять себя большинству, даже если это большинство право, как‑то глупо и попахивает подростковщиной. Да и это, по сути, тоже зависимость от большинства. Зрелый гармоничный человек знает и чувствует, когда согласиться с большинством, а когда возразить и настоять на своем.
Это можно сравнить с возрастной психологией. Ребенок считает, что родители всегда правы. Подросток – что они всегда ошибаются. И только взрослый понимает, когда родители правы, а когда ошибаются.
Подражание, заражение и внушение как механизмы влияния на человека
Подражание направлено на воспроизведение индивидом определенных внешних черт и образцов поведения, манер, действий, которые характеризуются и сопровождаются при этом определенной эмоциональной и рациональной направленностью.
Первым изучил этот феномен Г. Тардт, опубликовав труд «Законы подражания». Подражание, по Тардту, выполняет функции воспроизведения и унификации изобретений и открытий, обеспечивая тем самым как прогресс, так и одновременно определенную стабильность социальных отношений и учреждений. Благодаря подражанию происходит «распространение нововведений» и одновременно благодаря этому механизму население Европы, как отмечал Г. Тардт, превратилось в «издание, набранное одним и тем же шрифтом и выпущенное в нескольких сотнях миллионов экземпляров». Уже в наши годы мы наблюдали действие этого механизма при смене мод. Именно подражанию мы обязаны тем, что эталоны поведения стремительно тиражируются и мгновенно распространяются на всю общность. Г. Тардт рассматривал подражание как универсальное социальное явление, аналогичное наследственности в биологии и молекулярному движению в физике. Пытаясь объяснить при помощи подражания всю общественную жизнь, он писал, что подражания — это реки, вытекающие из тех гор, что представляют собой изобретения (Тардт, 1892)
Немецким социологом Г.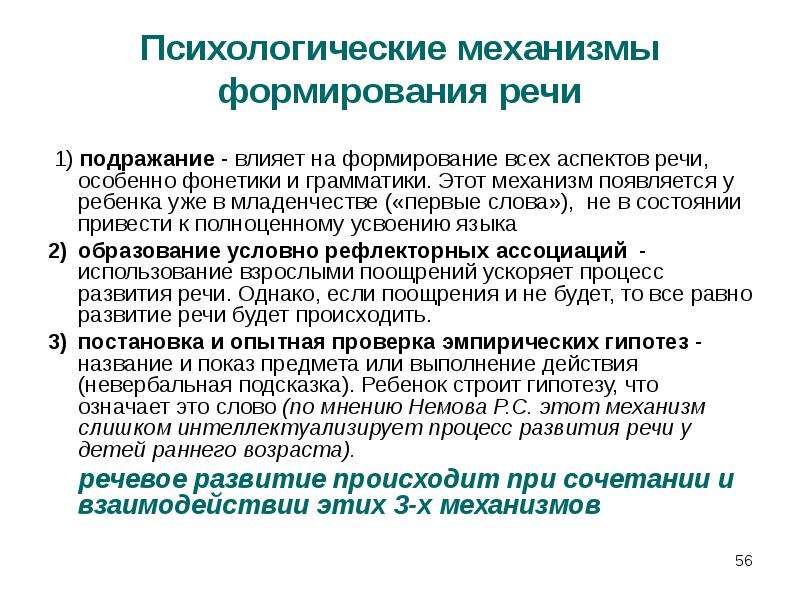 Зиммелем подражание рассматривалось как «психологическое наследование». Вместе с тем он видел в подражании средство приобщения индивида к системе групповых ценностей, позволяющих избавиться от тяжести персональной ответственности и мук выбора за счет предпочтения той или иной модели поведения.
Зиммелем подражание рассматривалось как «психологическое наследование». Вместе с тем он видел в подражании средство приобщения индивида к системе групповых ценностей, позволяющих избавиться от тяжести персональной ответственности и мук выбора за счет предпочтения той или иной модели поведения.
«Подражая, — писал Зиммель, — мы не только перекладываем с себя на других требование произвольной энергии, но одновременно и ответственность за совершенное деяние; так как оно освобождает индивидуума от мук выбора и позволяет ему выступать как сознание группы» .
В подражании Зиммель видел одно из существенных средств взаимопонимания.
Другим важнейшим способом групповой интеграции является механизм социально-психологического заражения. Его истоки уходят в глубины человеческой истории, а проявления заражения бесконечно разнообразны: от заразительных ритуальных танцев и плясок членов первобытной общины до спортивного азарта или религиозного экстаза или массового политически окрашенного психоза (национализм, фашизм), захватывающих в различные исторические отрезки времени большие социальные группы людей.
До сих пор во многом неясными являются сам механизм и функции социально-психологического заражения. В отличие от подражания, являющегося формой адаптации индивида к нормам, шаблонам и эталонам навязываемого по отношению к нему извне поведения, заражение выступает как форма спонтанно проявляющегося внутреннего механизма поведения человека. Заражение характеризует во многом бессознательную невольную подверженность индивида определенным психическим состояниям. Оно осуществляется не через пассивное созерцание, а через передачу психического настроя, обладающего большим эмоциональным зарядом, через накал страстей и чувств. В качестве средства психологического воздействия на группу заражение может использоваться с целью еще большего усиления групповой сплоченности, когда такая сплоченность уже имеет место.
Как средство компенсации недостаточно организованной сплоченности группы осуществляется при условии недостатка средств и информации относительно путей достижения необходимой сплоченности на какой-то рациональной основе. В фашистской Германии специальным приказом членам гитлерюгенда предписывалось коллективное прослушивание речей фюрера по радио. В толпе легче поддаются заражению.
В фашистской Германии специальным приказом членам гитлерюгенда предписывалось коллективное прослушивание речей фюрера по радио. В толпе легче поддаются заражению.
Следующим механизмом воздействия человека на человека выступает внушение. Между заражением и внушением есть много общего. Как заражение, так и внушение являются способами групповой интеграции, способами сколачивания, объединения общности в одно целое путем создания общего психологического состояния, перерастающего затем в совместную групповую и массовую деятельность. Существует большая степень взаимовлияния заражения и внушения друг на друга. Посредством внушения может осуществляться заражение группы или большой массы людей единым эмоциональным настроем. Но если заражение единым социальным настроением оказывается результатом внушения, то в свою очередь заражение может выступать уже в качестве важной предпосылки дальнейшего повышения эффективности внушающего воздействия.
Однако существуют различия между внушением и заражением. В отличие от заражения, представляющего способ сопереживания людьми одновременно общего психического состояния, внушение не только предполагает, но даже исключает психическое состояние, равновеликое сопереживание эмоций и представлений объектом и субъектом внушения, индуктором и реципиентом. Внушение — это одностороннее заражение.
В отличие от заражения, представляющего способ сопереживания людьми одновременно общего психического состояния, внушение не только предполагает, но даже исключает психическое состояние, равновеликое сопереживание эмоций и представлений объектом и субъектом внушения, индуктором и реципиентом. Внушение — это одностороннее заражение.
В. М. Бехтерев писал, что «внушение есть один из способов влияния одних лиц на другие, которое может происходить как намеренно, так и не намеренно со стороны влияющего лица и которое осуществляется иногда совершенно незаметно для человека, воспринимающего внушение, иногда же оно происходит с ведома и при более или менее ясном его сознании» «.
Особой силой внушение действует на лиц впечатлительных и вместе с тем не обладающих достаточно развитой способностью к самостоятельному логическому мышлению, не имеющих твердых жизненных принципов и убеждений, а также тех, для кого характерны доминирование ситуативного психического настроя, состояния неуверенности в себе.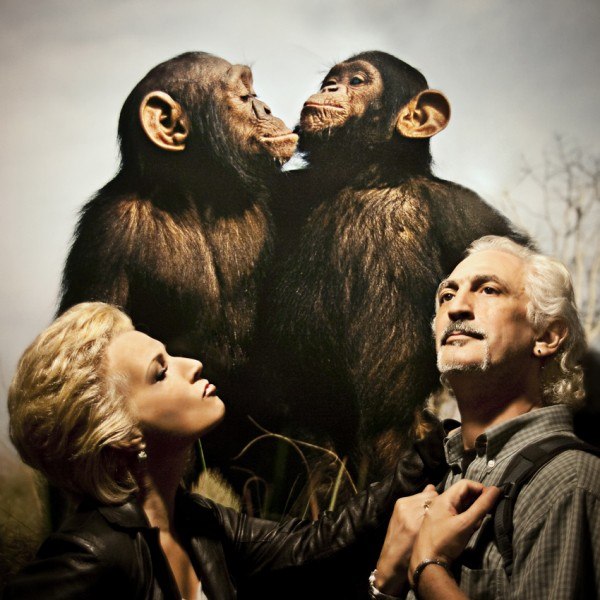 Важна степень авторитетности источника информации, которая в свою очередь располагает к доверию и снимает сколько -нибудь значительное сопротивление внушающему воздействию. Другими условиями, повышающими эффективность внушения, являются присутствие других, например митинг, ослабление воли и физическая усталость людей.
Важна степень авторитетности источника информации, которая в свою очередь располагает к доверию и снимает сколько -нибудь значительное сопротивление внушающему воздействию. Другими условиями, повышающими эффективность внушения, являются присутствие других, например митинг, ослабление воли и физическая усталость людей.
Внушение выступает значимым фактором общественной жизни и находит применение во всех сферах социальных отношений. Б. Д. Поршнев объяснял некоторые важнейшие страницы древнейшей истории человечества через действие механизмов внушения (суггестии) и контрвнушения (контрсуггестии). Суггестия объясняет зависимость человека от принудительных сил коллективных действий и представлений, уходящую в глубокие недра социальной психологии. Контрсуггестия является ключом к пониманию процесса рождения «внутреннего мира», психической независимости личности. Воздействием этих механизмов объясняется и исторический процесс социальной дифференциации человечества (демографической и лингвистической), который нашел выражение, с одной стороны, в быстром расселении человека по материкам и архипелагам земного шара в течение первых 15-20 тыс. лет нашей истории и, во-вторых, в факте возникновения множественности языков из некогда единого праязыка. И тот, и другой процессы, считает Поршнев, могут быть рационально поняты как результаты контрсуггестии, т.е. сопротивления человека, находящегося под бременем межиндивидуального давления, внушающей силе слова в рамках первой исторической общности «мы» (Поршнев, 1971).
лет нашей истории и, во-вторых, в факте возникновения множественности языков из некогда единого праязыка. И тот, и другой процессы, считает Поршнев, могут быть рационально поняты как результаты контрсуггестии, т.е. сопротивления человека, находящегося под бременем межиндивидуального давления, внушающей силе слова в рамках первой исторической общности «мы» (Поршнев, 1971).
Подражание и социальная психология. От ребенка – к миру, от мира – к ребенку (сборник)
Подражание и социальная психология
Мы уже отмечали недостатки психологической теории научения, полагающей, что знания, идеи и представления возникают в результате взаимодействия индивидуальной психики с материальными объектами. Ведущая роль связи с другими людьми в формировании умственных и нравственных установок осознана сравнительно недавно, еще и сейчас влияние этой связи многие считают чем-то второстепенным по сравнению с научением посредством прямого контакта с вещами. Получается, что связь с другими людьми дополняет знание о материальном мире знанием о людях.
Мы хотим показать, что такой подход разделяет людей и вещи самым абсурдным и невозможным образом. Взаимодействие с вещами, безусловно, формирует привычки приспособления к внешнему миру, но оно только тогда приводит к деятельности, имеющей смысл и сознательное намерение, когда вещи употребляются для достижения определенного результата. Единственный способ, при помощи которого один человек может воздействовать на разум другого, состоит в использовании физических условий, естественных или искусственных, таким образом, чтобы возбудить у этого другого какую-то ответную активность. Таковы два наших главных вывода. Имеет смысл развить и подкрепить их сравнением с теориями, считающими психологию непосредственных отношений между людьми приложением к психологии непосредственного взаимодействия индивидов с физическими объектами. Вся так называемая социальная психология построена, по сути, на понятии подражания. И следовательно, мы должны рассмотреть вопрос о природе и роли подражания в формировании психических установок.
Мысли на полях
В группе непрестанно действуют силы, вынуждающие человека вести себя определенным образом. А в противном случае выталкивающие его из группы.
Так называемый эффект подражания по большей части является продуктом как сознательного обучения, так и направляющего влияния бессознательных подтверждений и одобрений со стороны тех, с кем человек общается.
Моделью (образцом) здесь являются не действия другого человека, а ситуация в целом, которая требует, чтобы каждый, выполняя свои действия, учитывал действия и намерения другого. Может включаться и подражание, но его роль вспомогательна…
У ребенка есть собственный интерес: он хочет, чтобы игра продолжалась.
Достаточно заметить, как сильно осуществление намерений ребенка с самых первых дней зависит от соответствия между его действиями и действиями окружающих, чтобы увидеть, как важно для него и вести себя так же, как другие, и научиться понимать их…
Согласно этой теории, в основе социального управления лежит инстинктивное стремление индивидов имитировать (копировать) чужие действия, которые служат им образцом для подражания. Инстинкт подражания так силен, что дети изо всех сил стараются соответствовать образцам, предъявляемым другими, и воспроизвести их в собственных схемах поведения. Согласно нашей теории, то, что здесь называется подражанием, есть просто другое, к тому же дезориентирующее название участия – совместно с другими людьми – в таком применении вещей, которое приводит к интересующим всех последствиям.
Инстинкт подражания так силен, что дети изо всех сил стараются соответствовать образцам, предъявляемым другими, и воспроизвести их в собственных схемах поведения. Согласно нашей теории, то, что здесь называется подражанием, есть просто другое, к тому же дезориентирующее название участия – совместно с другими людьми – в таком применении вещей, которое приводит к интересующим всех последствиям.
Главный недостаток распространенного представления о подражании состоит в том, что оно ставит телегу впереди лошади, принимает следствие за причину. Индивиды, образующие социальную группу, несомненно, мыслят примерно одинаково. Они понимают друг друга и склонны действовать, руководствуясь в сходных обстоятельствах одними и теми же идеями, представлениями, намерениями. Наблюдая со стороны, можно сказать, что они подражают друг другу. И это более или менее верно в том смысле, что направленность и способ их действий весьма близки. Но слово «подражание» никак не раскрывает, почему люди так действуют; оно просто фиксирует факт, как будто тот сам себя объясняет. А это объяснение того же рода, что и объяснение снотворного действия опиума тем, что он усыпляет людей.
А это объяснение того же рода, что и объяснение снотворного действия опиума тем, что он усыпляет людей.
Внешнее сходство действий и внутреннее удовлетворение, возникающее от согласия с другими, названы подражанием, и затем этот феномен принят за психологическую причину, породившую наблюдаемое сходство. То, что здесь называется подражанием, в значительной мере заключается в том, что люди, будучи схожи по своей организации, одинаковым образом реагируют на близкие стимулы. Не надо никакого подражания, чтобы оскорбленный человек разозлился и бросился на обидчика. На этот пример можно, конечно, ответить тем несомненным фактом, что в группах, имеющих разные обычаи, ответ на оскорбление принимает различные формы. В одних группах пускают в ход кулаки, в других ответом становится вызов на дуэль, а в третьих – проявление высокомерного пренебрежения. Это происходит, как нам объясняют, потому, что в разных группах людям предоставлены различные образцы для подражания, но никакой необходимости в привлечении подражания для объяснения таких фактов нет.
Мысли на полях
Имитация результата, в отличие от имитации средств, использующихся для его достижения, оказывает незначительное влияние на формирование установок. Оно поверхностно и преходяще.
Подражание средствам достижения цели, напротив, вполне разумно, поскольку предполагает внимательное наблюдение и сознательный отбор того, что позволит человеку лучше справиться с делом, к которому он уже приступил.
Когда при осуществлении руководства мы сталкиваемся с сопротивлением, это означает, что мы пытаемся навязать линию поведения, противоречащую естественным склонностям.
Почему группы дикарей сохраняют свою дикость, а цивилизованные группы – цивилизованность? Несомненно, первым приходит на ум такой ответ: потому что дикари – это дикари, существа с низким интеллектом и, вероятно, ущербным нравственным чувством.
Несходство обычаев уже означает, что факторы, стимулирующие поведение, различны. Играет свою роль осознанное внушение, имеют большое влияние предшествующие одобрения и неодобрения. Еще важнее то, что если индивид не поступает так, как принято в его группе, то в буквальном смысле оказывается вне ее. Он может общаться с другими людьми на равных только в том случае, если ведет себя так же, как они. В группе непрестанно действуют силы, вынуждающие человека вести себя определенным образом, а в противном случае выталкивающие его из группы. Так называемый эффект подражания по большей части является продуктом как сознательного обучения, так и направляющего влияния бессознательных подтверждений и одобрений со стороны тех, с кем человек общается.
Еще важнее то, что если индивид не поступает так, как принято в его группе, то в буквальном смысле оказывается вне ее. Он может общаться с другими людьми на равных только в том случае, если ведет себя так же, как они. В группе непрестанно действуют силы, вынуждающие человека вести себя определенным образом, а в противном случае выталкивающие его из группы. Так называемый эффект подражания по большей части является продуктом как сознательного обучения, так и направляющего влияния бессознательных подтверждений и одобрений со стороны тех, с кем человек общается.
Предположим, человек катит мяч по направлению к ребенку, тот ловит его, катит обратно – в этом состоит игра. Стимулом здесь выступает не вид мяча или катящего его человека, а сама ситуация игры. Реакция в этой игре – не просто отправление мяча назад, его надо отправить так, чтобы другой мог его поймать и снова возвратить, – иначе игра прекратится. Моделью (образцом) здесь являются не действия другого человека, а ситуация в целом, которая требует, чтобы каждый, выполняя свои действия, учитывал действия и намерения другого. Может включаться и подражание, но его роль вспомогательна. У ребенка есть собственный интерес: он хочет, чтобы игра продолжалась. Он может, конечно, обращать внимание на то, как другой человек ловит и держит мяч, чтобы улучшить собственные действия, но ребенок не имитирует игру, он подражает способам действия, поскольку хочет сам, по собственной инициативе, успешно участвовать в ней. Достаточно заметить, как сильно осуществление намерений ребенка с самых первых дней зависит от соответствия между его действиями и действиями окружающих, чтобы увидеть, как важно для него и вести себя так же, как другие, и научиться понимать их, чтобы вести себя соответственно. Все это так настоятельно побуждает к единству в действиях, что подражание здесь ничего не объясняет.
Мысли на полях
В некотором смысле разум диких народов – результат, а не причина отсталости социальных институтов. Их занятия таковы, что сильно сужают спектр объектов внимания и интереса, а следовательно, и стимулов умственного развития.
У нас не способности лучше, а больше стимулов для их развития и использования. Дикарь имеет дело в основном с примитивными стимулами, у нас они гораздо более тонкие.
Поскольку занятия нынешних детей направляются этими отобранными и целенаправленными стимулами, дети способны за короткое время пройти тот путь, на который роду человеческому понадобились долгие и мучительные века. Их дорога вымощена всеми предыдущими успехами.
Цивилизация – то, для чего применяется все перечисленное, хотя, конечно, не будь их, и применять было бы нечего. Освобождается время, которое в других обстоятельствах неизбежно тратилось бы на борьбу с враждебным окружением и неблагоприятными природными условиями.
Имитация результата, в отличие от имитации средств, использующихся для его достижения, оказывает незначительное влияние на формирование установок, оно поверхностно и преходяще. К такого рода подражанию способны даже идиоты, оно определяет внешний рисунок поведения, но не смысл действий. Когда мы обнаруживаем, что дети заняты такого рода подражанием, то склонны скорее называть их обезьянами, мартышками, попугаями и т. п., чем поощрять. Подражание средствам достижения цели, напротив, вполне разумно, поскольку предполагает внимательное наблюдение и сознательный отбор того, что позволит человеку лучше справиться с делом, к которому он уже приступил. Целенаправленно используемый инстинкт подражания может, как и всякий другой инстинкт, стать фактором формирования адекватного поведения.
Это отступление призвано подкрепить вывод о том, что естественное социальное управление приводит к формированию определенной разумной установки – способа понимания объектов, событий и действий, который помогает человеку эффективно участвовать в совместной с другими людьми деятельности. Когда при осуществлении руководства мы сталкиваемся с сопротивлением, это означает, что мы пытаемся навязать линию поведения, противоречащую естественным склонностям. И только неправильное понимание ситуаций, в которых люди взаимно заинтересованы (т. е. заинтересованы действовать, учитывая действия друг друга), приводит к представлению о подражании как главном факторе социального управления.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРесДотянуться до «звезды». Почему подростки начинают подражать кумирам | События | ОБЩЕСТВО
Как быть, если образ кумира полностью занял не только стены детской, но и сердце подростка? И всегда ли таланты хорошо влияют на поклонников?
Отпустить, чтобы приблизить
Ещё в раннем возрасте ребёнок через игру познаёт окружающий мир и своё место в нём. Ничего страшного, если ваш малыш любит носиться по комнате в плаще Супермена, а малышка хочет быть похожей на прекрасную фею с крылышками из мультика. Более того, это отличная возможность через привлекательную внешнюю атрибутику объяснить ребёнку, что доброе сердце, любовь к людям, правдивость — важные качества для любого человека.
Конечно, особенно остро вопросы: «Кто я такой?» и «Каково моё место в этом мире?», встают в подростковом возрасте. Но сегодня возрастные рамки такого периода сдвигаются — размышлять на такие сложные темы начинают даже десятилетние.
«До подросткового возраста, как правило, у детей нет своего мнения. Они смотрят на мир глазами родителей, — говорит Наталья Вакула, педагог-психолог центра помощи семье и детям нижегородского центра «Журавушка». — Порой вообще отсутствуют критические маркеры, по которым оценивается родительское поведение. Например, если в семье кто-то из родителей выпивает, некоторые дети считают это нормой. В подростковом же возрасте ребёнок пытается понять, что он из себя представляет в отрыве от родителей. Для этого ему надо маму с папой «обесценить», то есть родители с их жизненными ценностями должны отойти на второй план. Такое поведение совершенно нормально. Этот кризис надо пережить, иначе он наступит позже и выйти из него будет сложнее».
Обретая кумира в образе звезды спорта, сцены или модельного бизнеса, ребёнок ищет новые шаблоны поведения. В этот момент специалисты рекомендуют родителям не вступать в конкуренцию с внезапным авторитетом дочери или сына.
Здесь речь идёт о готовности родителей отпустить ребёнка от себя, увеличив личностную дистанцию. Это просто необходимо, чтобы ребёнок повзрослел.
Тату на душе
Чаще подростки ищут образцы для подражания в информационном пространстве, где главное место занимает картинка. Ребёнок не имеет жизненного опыта и редко способен оценивать человеческие качества кумира. Попытки взрослых объяснять чаду, что любимая певица — увы, наркоманка, а обожаемый актёр бросает одного ребёнка за другим, скорее всего, не увенчаются успехом.
Подростковый возраст — это изменения не только в поведении ребёнка, но и в его внешности. В этом отношении родители должны быть чуткими. Например, желание делать татуировки и пирсинг, как у кумира, может сигнализировать о психологических проблемах.
«Стремление трансформировать своё тело говорит о невозможности выразить агрессию или о желании наказать себя, — продолжает Наталья Вакула. — Нанесение татуировки или пирсинг — процедуры болезненные. Логика может быть такой: боль душевную надо заглушить болью физической. Получается, татуировка — лишь красивый фантик».
Осторожными надо быть и с диетами. Иногда девочки, желая быть похожими на знаменитых актрис, переступают границы разумного. За внешней хрупкостью и нежеланием разделить с семьёй ужин может скрываться страшная болезнь современности — анорексия! Родителям не надо думать, что эта блажь сама пройдёт и, повзрослев, девочка накинется на тортики и пирожные.
Анорексия — серьёзное психическое нарушение и вид зависимости. В таких случаях следует незамедлительно обратиться к психотерапевту, причём надо быть готовым к тому, что специалист начнёт работать со всей семьёй. Болезнь у ребёнка развилась в определённой семейной системе, и именно здесь надо искать её причины.
Всё пройдёт?
В большинстве случаев любовь к кумирам проходит у подростков вместе со сложным периодом взросления. Многолетняя практика психологических наблюдений показывает: до подросткового возраста мальчики больше находятся в эмоциональном слиянии с мамами, а девочки — с папами. Завершив личностные поиски, ребёнок от телеэкрана или из Сети должен вернуться к образу родителей, только уже девочки к маме, мальчики — к папе. Если этого не произошло, появляются маменькины сынки и папины дочки. Модель их поведения в обществе печально известна.
Также важно не занижать самооценку ребёнка. Низкая самооценка даёт больше шансов, что, став взрослым, человек будет продолжать искать на стороне пример для подражания: «Я лучше, поскольку похож на красивого, успешного, богатого человека».
Родитель может стать образцом для ребёнка только при условии, что ещё до подросткового возраста мама с папой уважительно относились к сыну или дочери, любили их и понимали.
Кумиры знаменитостей
Кумиры дней сегодняшних некогда тоже вырезали из журналов картинки со звёздами и мечтали повторить их путь успеха.
- Актёр Леонардо ДиКаприо до сих пор считает своим кумиром художника и скандалиста Энди Уорхолла.
- Певица Алла Пугачёва признаётся, что с детства обожала певицу Клавдию Шульженко.
- В семье актёра Сергея Безрукова кумиром считали поэта Сергея Есенина.
- Гений века компьютеров Стив Джобс образцом для подражания считал изобретателя и основателя корпорации Polaroid Эдвина Лэнда.
- Спортсменка Елена Исинбаева всегда хотела взлетать так же высоко, как белорусский прыгун с шестом Сергей Бубка.
- Актриса Елизавета Боярская всегда хотела быть похожа на голливудскую диву Вивьен Ли.
Имитация | поведение | Britannica
Imitation , в психологии воспроизведение или выполнение действия, которое стимулируется восприятием аналогичного действия другим животным или человеком. По сути, это модель, на которую направлено внимание и реакция подражателя.
В качестве описательного термина имитация охватывает широкий диапазон поведения. В их естественной среде обитания можно наблюдать, как молодые млекопитающие копируют действия старших представителей вида или игры друг друга.Среди людей подражание может включать в себя такие повседневные переживания, как зевание, когда зевают другие, множество бессознательно и пассивно усвоенных копий социального поведения и преднамеренное принятие идей и привычек других.
Исследования младенцев показывают, что во второй половине первого года обучения ребенок будет имитировать выразительные движения других — например, поднятие рук, улыбку и попытки говорить. На втором году жизни ребенок начинает имитировать реакции других людей на предметы.По мере взросления ребенка перед ним ставятся всевозможные модели, большинство из которых определяется его культурой. К ним относятся физическая осанка, язык, базовые навыки, предрассудки и удовольствия, а также моральные идеалы и табу. То, как ребенок их копирует, определяется главным образом социальными и культурными влияниями поощрения или наказания, которые направляют его развитие.
Любое единообразие или сходство мыслей и действий людей не обязательно означает, что они вызваны одними и теми же или подобными психологическими мотивами или механизмами.Вариации ситуаций, побуждений и усвоенных способов адаптации часто слишком сложны, чтобы их можно было отнести к категории имитации.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчасМногие ранние психологи считали само собой разумеющимся, что подражание было вызвано инстинктом или, по крайней мере, наследственной предрасположенностью. Более поздние авторы рассматривали механизмы подражания как механизмы социального обучения. Подражание занимает центральное место в подходе к социальному обучению американского психолога канадского происхождения Альберта Бандуры.Его исследования показали, насколько человеческое поведение усваивается путем подражания другому человеку, который, как наблюдают, получает какое-то вознаграждение или поощрение за поведение. Исследователи обычно различают подражание, вызванное простым условным рефлексом, вызванное обычным обучением методом проб и ошибок, и имитацию с участием высших мыслительных процессов.
Границы | Подражание как механизм познавательного развития: кросс-культурное исследование изучения правил 4-летними детьми
Введение
Способность учиться на действиях других отличает наш вид.Младенцы и дети ясельного возраста имеют редкую в животном мире склонность к подражанию широкому спектру действий (Meltzoff et al., 2009; Whiten et al., 2009). Это включает в себя воспроизведение не только общего результата или конечных результатов, которых достигают другие с помощью объектов, но также и точных средств, используемых для их достижения. Например, увидев новый акт, когда взрослый прикасается головой к световой панели, чтобы осветить его, 18-месячные подростки, скорее всего, выполнят этот новый поступок даже после недельной задержки (Meltzoff, 1988).Нейронная основа имитации младенцев и детей раскрывается с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ; Marshall and Meltzoff, 2014).
Имитация имеет несколько преимуществ для когнитивного развития. Воспроизведение точных действий других ускоряет и поддерживает культурное обучение инструментальным действиям и произвольным ритуалам (Tomasello, 1999; Boyd and Richerson, 2005; Meltzoff et al., 2009; Herrmann et al., 2013). Инструментальные инновации и социальные обычаи могут распространяться в сообществах посредством имитации, тем самым приводя к сохранению такого поведения из поколения в поколение и предоставляя больше возможностей для кумулятивного прогресса.
Особое преимущество имитации с высокой точностью состоит в том, что она увеличивает возможности обучения (Williamson and Markman, 2006). Даже если действия не до конца поняты, дети, которые способны имитировать их в точных деталях, получают возможность открыть для себя более глубокий смысл и когнитивное понимание действий, которые сначала постигаются только более поверхностным образом. В этой статье мы выдвигаем гипотезу о том, что имитация действий может вызвать когнитивные изменения, и проверяем эту идею с помощью новой процедуры, использующей категоризацию объектов по их весу.Мы провели эти тесты в двух культурах, Китае и США.
То, что дети узнают из действий других, не ограничивается конкретными наблюдаемыми движениями. Дети также выводят и воспроизводят цели, которые другие стремятся достичь, и когнитивные правила, которые определяют поведение других (для обзора см. Meltzoff and Williamson, 2013). Например, дети имитируют намеченную цель взрослого (например, Meltzoff, 1995), причинно-следственные связи (Horner, Whiten, 2005; Schulz et al., 2008; Buchsbaum et al., 2011; Waismeyer et al., 2015), организации, руководящей действиями других (Whiten et al., 2006; Flynn and Whiten, 2008; Loucks, Meltzoff, 2013), и абстрактных правил (Subiaul et al., 2007a, b, 2014; Williamson et al. , 2010; Wang et al., 2015).
Доказательства того, что было названо «абстрактной имитацией», получены от Williamson et al. (2010), что является основой текущего эксперимента. Дети в этом исследовании увидели, как взрослый сортирует четыре объекта на две корзины в зависимости от визуального свойства, цвета (эксперимент 1) или звуков, издаваемых объектами при встряхивании (эксперимент 2).Когда давалась возможность манипулировать объектами, дети в экспериментальных группах с большей вероятностью классифицировали объекты по этим соответствующим свойствам, чем контроли. Затем детям было предложено обобщающее задание — другой набор предметов, которые отличались от оригиналов как по виду, так и по цвету или издаваемому ими звуку. Хотя взрослый никогда не манипулировал этим вторым набором, дети в экспериментальной группе сортировали эти объекты по ключевому свойству объекта (цвету или звуку), предполагая, что дети усвоили абстрактное правило, которое можно было бы обобщить для всех стимулов.
Здесь мы распространили идею «абстрактного подражания» на изучение детьми интересной области физики — веса объекта. Классификация по весу — это сложная задача для дошкольников. Результаты Wang et al. (2015) показывают, что 36-месячные дети того же возраста, которые легко научились сортировать предметы по цвету и звуку, не могли усвоить правило сортировки по весу посредством наблюдения и имитации. Этот вывод согласуется с предыдущими исследованиями, в которых установлено, что дети дошкольного возраста борются с задачами, требующими учета веса независимо от внешнего вида предметов (Smith et al., 1985; Schrauf et al., 2011).
Кросс-культурные методы использовались для оценки того, какие аспекты социального обучения универсальны в культурном отношении, а какие различаются. В целом эти исследования показали существенное сходство в раннем подражании детям, несмотря на значительные различия в культурной среде (Callaghan et al., 2011; Wang et al., 2012). Например, очень похожие реакции были продемонстрированы у детей из промышленно развитого австралийского города и детей из отдаленных общин бушменов и аборигенов (Nielsen and Tomaselli, 2010; Nielsen et al., 2014).
Вполне возможно, что имитация когнитивных правил восприимчива к культурному опыту, и китайская культура представляет собой интересный теоретический тест. Китай и другие азиатские страны называют «коллективистскими» культурами (Маркус и Китайма, 1991; Ойсерман и др., 2002). Считается, что из-за языка и культуры люди, выросшие в Китае, уделяют относительно больше внимания гармоничным отношениям, чем те, кто вырос в США и других западных культурах, получивших название «индивидуалистических» культур.Китайская практика воспитания детей подчеркивает ценность групп, социальной сплоченности и соответствия в поведении (Jose et al., 2000). Китайское общество также подчеркивает, что позволяет другим сохранять «Миан Цзи» или «Лицо», что обычно приводит к неявному и консервативному выражению своего мнения (Redding and Ng, 1982). Китайские методы воспитания детей могут стать плодородной тренировочной площадкой для выявления невидимых правил и мотиваций, объясняющих видимое поведение.
Текущий эксперимент проверяет абстрактное подражание правилам китайскими детьми и сравнивает его с Wang et al.(2015) существующий набор данных по американским детям. Всем детям были предъявлены четыре визуально идентичных предмета: два тяжелых и два легких. В экспериментальной группе дети видели, как взрослый поднимал каждый предмет и сортировал их (по весу) в две корзины. Две контрольные группы были использованы для определения того, какие элементы демонстрации необходимы для содействия сортировке по весу. В частности, мы проверили, было ли наблюдение демонстрации преднамеренной сортировки (экспериментальная обработка) более эффективным для выявления сортировки по весу, чем наблюдение только действий по поднятию (элемент управления для «усиления стимула») или действий по поднятию + отсортированное конечное состояние (элемент управления для « эмуляция »или дублирование конечного состояния).
Один вопрос заключался в том, может ли акцент на групповой сплоченности и согласованности в Китае подчеркивать глубинное значение поведения других, что дало бы китайским детям преимущество в изучении неочевидных когнитивных правил, таких как категоризация по невидимому свойству веса. Однако абстрактное подражание правилам может быть доступно в первые годы жизни во всех культурах — культурная универсальность, которая способствует дальнейшему когнитивному развитию.
Не менее важно для межкультурного аспекта, мы стремились осветить, как подражание может информировать теории о связи между восприятием, действием и когнитивным развитием.Предыдущие исследования показали, что воспроизведение определенных действий может побудить детей узнать основную цель действия (например, Williamson and Markman, 2006). Если это так, то имитация детьми определенных действий взрослого по взвешиванию и «поднятию» (поднятие и опускание) может помочь им изолировать и сделать вывод о том, что лежащие в основе различия в весе являются основой для классификации визуально идентичных объектов. Если это так, это проливает свет на то, как имитация действия может способствовать развитию когнитивных правил (см. «Обсуждение»).
Материалы и методы
Участников
Участниками стали девяносто шесть четырехлетних детей. Половина составляли китайцы ( N = 48; M = 53,06 месяца, SD = 3,77 месяца; 24 мужчины), а половина — американцы ( N = 48, M = 48,92 месяца, SD = 1,66 месяца; 24 мужчины. ). Китайские участники были набраны из детского сада при университете в Китае, который в основном набирает детей ханьской национальности. Американские участники были набраны из крупного мегаполиса (выборка состояла из 78% белых, 16% черных / афроамериканцев, 3% других, 2% из которых были выходцами из Латинской Америки и 1% не сообщили).
американских детей были протестированы индивидуально в лаборатории, и их поведение было записано на видео для последующей оценки. Китайские дети проходили индивидуальное тестирование в тихой комнате своей школы. Наблюдательный совет государственного университета Джорджии (IRB) обеспечил надзор за проектом.
Материалы
Четыре набора из четырех объектов использовались в качестве стимулов (рис. 1A). Два набора состояли из четырех желтых резиновых уток (5,5 см × 4,5 см × 5 см) каждый. Два других набора состояли из четырех пластиковых зебр (5 см × 5 см × 4 см).В каждом наборе четыре объекта были визуально идентичны, но, незаметно для ребенка, различались невидимым свойством веса. Для каждого набора уток две утки весили 87,5 г («тяжелые») и две — 21,7 г («легкие»). Для каждого набора зебры две зебры весили 41,5 г («тяжелые») и две — 11,6 г («легкие»). Экспериментальная работа показала, что два веса, использованные в каждом наборе, легко распознавались нетренированными взрослыми. Объекты нельзя было различить ни зрением, ни слухом (ни один из объектов не издавал звуков при манипуляциях, потому что внутренние камеры были либо заполнены, либо пусты).Объекты были пространственно рассортированы в лоток с двумя чашами (23,5 см × 5 см × 4,5 см), далее именуемый «контейнерами».
Рис. 1. Фотографии экспериментальных материалов (A), которые состоят из наборов из четырех визуально идентичных уток, четырех визуально идентичных зебр и корзин для сортировки объектов. В каждом наборе два объекта тяжелые и два легких. В строке (B) показано, как взрослый совершает подъемное «поднимающее» движение, которое состоит из полного цикла подъема и опускания предмета на плоской ладони, как если бы он взвешивался.
Процедура
Каждого ребенка случайным образом распределили в одну из трех независимых экспериментальных групп. Во всех группах процедура состояла из демонстрации и периода ответа. Следующие три фактора были уравновешены внутри экспериментальных групп и между ними: (а) пол ребенка, (б) порядок, в котором предъявлялись стимулы (утки или зебры в качестве первого набора), и (в) сторона, на которой находился тяжелый предмет. объекты были размещены во время демонстрации (слева против справа).В каждой группе было 16 китайских и 16 американских детей.
Демонстрационный период
Опытная группа: обработка + сортировка
Экспериментатор поместил один набор объектов (например, уток) на стол в виде квадрата (примерно 12 см × 12 см). Два объекта одного веса были расположены справа от квадрата, а два объекта другого веса — слева. Разницы в весе не было видно и, следовательно, ребенок не знал.С точки зрения экспериментатора бункеры были размещены на столе за объектами (рис. 1В). Затем экспериментатор обратил внимание ребенка (например, «сейчас моя очередь»).
В этой группе дети видели, как экспериментатор намеренно сортирует предметы по весу. Экспериментатор взял ближайший к ребенку объект (справа от ребенка), положил его себе на ладонь и шесть раз «взвесил», как если бы проверял вес объекта, покачивая им вверх и вниз на плоской поверхности. ладонь во взвешивающем движении (см. рис. 1B).Затем объект был помещен в корзину справа от ребенка. Затем экспериментатор взял второй предмет с правой стороны ребенка, поднял его таким же образом и поместил в ту же корзину. Затем экспериментатор таким же образом поднял каждый из двух оставшихся объектов и поместил каждый из них в другую корзину. На протяжении всей демонстрации у экспериментатора было нейтральное приятное выражение лица. Подъемное движение было идентичным для всех объектов, потому что экспериментатор практиковал его одинаково для каждого объекта, а разница в весе была настолько минимальной, что кинематика подъема могла быть выполнена одинаково.
Контрольная группа 1: поднятие + без сортировки
В этой контрольной группе экспериментатор обрабатывал каждый объект, но не сортировал их. Эта группа использовалась для контроля «усиления стимула», которое может произойти, когда взрослый обращается с тестовыми объектами. Экспериментатор поместил один набор предметов на стол в квадратном расположении и обратил внимание детей на предметы («теперь моя очередь»). Затем экспериментатор поднимал каждый объект и поднимал его точно так же, как в экспериментальной группе, но вместо того, чтобы сортировать объекты, каждый после того, как он был поднят, помещался обратно на стол в исходное положение.Таким образом, в этой контрольной группе дети видели только процесс взвешивания, но не поведение сортировки.
Контрольная группа 2: поднятие + предварительная сортировка
В этом контроле дети видели, как экспериментатор обрабатывает каждый объект, а также видели конечное состояние объектов, отсортированных по ячейкам. Принципиальная разница заключалась в том, что экспериментатор никогда не сортировал объекты по корзинам. Вместо этого четыре объекта были доставлены на стол уже предварительно отсортированными по корзинам. Эта группа контролирует «эмуляцию» или дублирование массива конечных состояний.Экспериментатор привлекал внимание ребенка («теперь моя очередь»), поднимал каждый из предметов по очереди, поднимал их и возвращал каждый на свое место в мусорных ведрах. Таким образом, в этой группе дети видели поведение при взвешивании, а также конечное состояние восприятия, которое было показано в экспериментальной группе, но участник никогда не видел, как взрослый сортирует предметы.
Период ответа
Период ответа был идентичным для всех групп. Экспериментатор поместил четыре объекта перед ребенком, а корзины за объектами (с точки зрения ребенка, см. Рис. 1А).Объекты были размещены в квадратной конфигурации, но теперь два объекта с одинаковым весом были поменяны местами (без ведома детей) и помещены в горизонтальные ряды. Пространственное расположение предметов было изменено по сравнению с демонстрационным периодом, так что дети должны были использовать веса предметов, а не просто движения экспериментатора, выбирающие и размещающие, чтобы правильно сортировать предметы. Если бы дети копировали только буквальные движения экспериментатора, им не удалось бы отсортировать по весу, потому что массив был преобразован между демонстрацией и периодом ответа, как описано.(Кроме того, расположение тяжелых и легких предметов в переднем и заднем рядах менялось в течение периодов ответа в каждом из четырех испытаний. Таким образом, если два тяжелых предмета находились в ближайшем к ребенку ряду в период ответа в испытание 1, то они находились в ряду дальше всех от ребенка в испытании 2 и т. д.)
Детям было предложено действовать, но не было лингвистического описания содержания действия. Экспериментатор просто сделал нейтральный комментарий: «Теперь ваша очередь.Детям разрешалось манипулировать предметами, пока они не поместили все четыре в мусорные ведра. При необходимости детям задавали вопрос: «Можете ли вы положить их внутрь?» После того, как дети поместили четыре объекта в корзины, экспериментатор убрал корзины для более позднего подсчета очков. В испытании 2 детям давали сортировку идентичных групп предметов. Демонстрация этого набора не проводилась. Этот второй набор материалов был необходим, потому что не всегда можно было оценить по видео со 100% уверенностью, что ребенок сделал с тяжелыми / легкими объектами, потому что все они были визуально идентичны, а иногда рука ребенка блокировала обзор камеры; таким образом, мы сохранили бункеры для последующего подсчета очков.
После этих двух испытаний был представлен визуально новый набор из четырех предметов. Если в демонстрации использовался набор уток, набор зебры использовался как набор обобщения и , наоборот, . Важно отметить, что эти объекты также отличались по своему абсолютному весу от оригинала (см. Материалы), и экспериментатор не проводил демонстрации сортировки с этими объектами. Эти испытания были разработаны, чтобы оценить, будут ли дети обобщать правило сортировки по весу на новые стимулы.Экспериментатор поместил четыре объекта обобщения, установленных на столе, в квадратном порядке (с тяжелыми и легкими объектами в горизонтальных рядах, см. Уравновешивание выше), и детям дали два периода ответа, как описано выше.
Зависимые меры и оценка
Сортировочный балл
Первичным зависимым показателем является количество испытаний, в которых участники сортировали четыре объекта по весу. Чтобы получить «правильную сортировку», дети должны были сгруппировать два объекта одного веса в одном контейнере и два объекта другого веса в другом контейнере.Каждая правильная сортировка оценивалась как 1, что дает оценку сортировки от 0 до 4 в четырех испытаниях.
Очки роста
Оценивался и другой зависимый показатель — имитация детьми подъема, который использовал взрослый (рис. 1B). Было три компонента: (а) удерживание объекта снизу плоской ладонью, (б) поднятие объекта, подняв руку и позволив ей упасть, и (в) стабилизация объекта второй рукой.Если дети воспроизводили все три компонента хотя бы один раз в испытании, они получали в этом испытании 1 балл. В противном случае оценка за испытание равнялась 0. Оценка ребенка по здоровью варьировалась от 0 до 4 (1 возможный балл за каждое из четырех испытаний).
Соглашение о подсчете очков
Основным оценщиком был научный сотрудник, который оставался не информированным о групповом задании участника и гипотезах исследования. Второй секретарь, также не знающий о групповом распределении, закодировал случайно выбранных 25% участников.Согласованность межкодеров оценивалась с использованием коэффициента внутриклассовой корреляции (ICC = 0,98). Из-за ограничений IRB видео недоступны для китайских детей. Оценивался только вес американских детей. (В американской выборке три видеозаписи были недоступны, что дало окончательное значение N = 45 для анализа веса.)
Результаты
Предварительный анализ не показал значительного влияния пола участников, стороны, на которой были размещены гири, типа объекта (утки vs.зебры) или порядок представления (сначала утки против зебр). Мы провалили эти факторы во всех последующих анализах.
Категоризация объекта
Наш первый анализ — тест на различия в том, сортируют ли дети наборы предметов по весу в зависимости от экспериментальной группы. Показатели сортировки детей анализировали с использованием 2 (Культура: Китайская против Американской) × 3 (Тестовая группа: Экспериментальная, Контрольная-1, Контрольная-2) × 2 (Набор объектов: Демонстрационная установка против набора для обобщения) с повторными измерениями ANOVA.На рис. 2 показаны результаты сортировки в зависимости от группы «Культура» и «Тест». Этот анализ выявил значительный основной эффект тестовой группы, F (2,96) = 9,03, p <0,001, ηp2 = 0,17. Последующие попарные сравнения (Стьюдент – Ньюман – Кеулс) показали, что дети в экспериментальной группе ( M, = 2,50, SD = 0,95) имели значительно более высокие баллы сортировки, чем дети в контрольной группе-1 ( M = 1,41 , SD = 1,18; p <0,001) или Контроль-2 ( M = 1.53, SD = 1,19; p = 0,002) групп без существенной разницы между двумя контролями ( p = 0,87).
Рис. 2. Среднее количество весовых сортов (± SE) в зависимости от тестовой группы и культуры .
Этот анализ также выявил несколько заметных несущественных сравнений. Культура не показала значимого основного эффекта, F (1,96) = 1,91, p = 0,17, ηp2 = 0,02 или взаимодействия с тестовой группой, F (2,95) = 0.48, p = 0,62, ηp2 = 0,01. Также не было значительного основного эффекта от набора объектов, F (1,90) = 0,11, p = 0,74, ηp2 = 0,001 или Тестовая группа × взаимодействие набора объектов, F (2,90) = 0,33. , p = 0,72, ηp2 = 0,007.
Было свидетельство обобщения. Баллы сортировки детей по объектам демонстрации и обобщения были соответственно: Экспериментальная группа: M = 1,19, SD = 0,64, M = 1,31, SD = 0.69; Контроль-1: M = 0,75, SD = 0,84, M = 0,69, SD = 0,59; Контроль-2: M = 0,75, SD = 0,76, M = 0,78, SD = 0,83. Не было обнаружено существенной разницы между показателями детей на объектах демонстрации и обобщения, t (31) = -0,75, p = 0,46, d = 0,18, что указывает на то, что дети в экспериментальной группе показали такие же хорошие результаты при сортировке новые объекты по весу, как они это делали при сортировке тех, которые взрослый изначально использовал при демонстрации-обобщении.Дополнительным доказательством обобщения является то, что 50% (16/32) детей в экспериментальной группе отсортировали объекты в трех или четырех испытаниях по сравнению с 20,3% (13/64) в контрольной группе, x 2 (4,92) = 14,70, p = 0,005, Cramer’s V = 0,28.
Мы также провели более всеобъемлющий тест успеваемости детей. Оценки детей за сортировку сравнивали со случайностью. Чтобы вычислить значение вероятности, мы предположили, что в каждую корзину помещено по два объекта (дети сделали это на 93.9% испытаний). Есть 24 возможных расположения четырех объектов в двух ячейках. Только по случайным комбинациям в 8 из этих 24 комбинаций тяжелые объекты будут сгруппированы вместе в одном контейнере, а легкие — в другом. Таким образом, вероятность того, что окончательный массив будет состоять из двух объектов одинакового веса, помещенных в каждую ячейку, составляет 0,33. Учитывая, что существует четыре испытания, оценка вероятности выполнения составляет 1,33 (4 испытания × 0,33). Одновыборочный тест t показал, что дети в экспериментальной группе классифицировали предметы по весу значительно чаще, чем ожидалось случайно, t (31) = 6.96, p <0,001, d = 2,50. Напротив, успеваемость детей в группах Контроля-1 ( p = 0,72) и Контроля-2 ( p = 0,35) существенно не отличалась от случайных. Такой же эффект был также получен для китайской и американской культур, протестированных индивидуально.
Поведение при поднятии
В ходе этого анализа оценивается, имитировали ли дети определенное «поднятие», и как это взаимодействовало с их усвоением когнитивного правила категоризации предметов по весу.Этот вопрос представляет интерес, потому что один из способов, которым дети могут узнать о весе, — это имитировать двигательные акты подъема (покачивание предметом вверх и вниз в руке, поддерживая его), даже если они не полностью понимали, почему взрослый делал это. действовать. Таким образом, имитация двигательного акта потенциально может побудить к познанию свойств объекта. Для этого анализа мы классифицировали детей в тестовых группах на один из трех типов сортировки на основе их оценок сортировки. Считалось, что дети, правильно отсортировавшие предметы в трех или четырех испытаниях, имели высокий балл сортировки (, высокие сортировщики, , n = 13).Детей, которые сортировали предметы в двух испытаниях, считали средними сортировщиками ( n = 7). Дети с оценкой сортировки 0 или 1 были отнесены к категории младших сортировщиков ( n = 25).
Односторонний дисперсионный анализ с использованием типа сортировки (три уровня) в качестве межсубъектного фактора был проведен на показателях роста детей. Подражание детям подъема взрослого было связано с их способностью к сортировке: F (2,42) = 4,04, p = 0.03, ηp2 = 0,16 (рисунок 3). Последующий попарный тест (Стьюдент – Ньюман – Кеулс) показал, что средние сортировщики имели значительно более высокие баллы по поднятию, чем высокие сортировщики ( p = 0,01), с промежуточными характеристиками у низкоуровневых сортировщиков (см. Обсуждение для дальнейшего рассмотрения) .
Рисунок 3. Средняя оценка веса (± SE) в зависимости от типа сортировки .
Обсуждение
На основе демонстрации взрослых как американские, так и китайские дети абстрагировались от правила категоризации для сортировки объектов по весу.Низкий уровень сортировки детьми в Control-1 (поднятие + отсутствие сортировки) устанавливает, что простого наблюдения за действиями взрослого по взвешиванию недостаточно, чтобы побудить детей классифицировать объекты. Control-2 (поднятие + предварительная сортировка) устанавливает, что просмотра как подъемных жестов взрослого, так и окончательного отсортированного конечного состояния также недостаточно. Этот последний результат особенно поразителен и важен, потому что поведение, использованное во время демонстрационного периода Контроля-2, близко соответствует поведению, используемому в экспериментальной группе.В группе «Контроль-2» экспериментатор брал предварительно отсортированные объекты из бункеров и возвращал их в то же положение; В экспериментальной группе экспериментатор брал предметы со стола и рассортировывал их по корзинам. Ни подъема, ни конечного состояния было недостаточно для сортировки по весу. Таким образом, мы предполагаем, что обучение правилам было основано на восприятии и имитации целенаправленного сортировочного поведения взрослого. .
Наблюдение за действиями и обучение когнитивным правилам
Дети, которые видели экспериментальную демонстрацию классификации визуально идентичных объектов по невидимому свойству веса, показали более высокие показатели сортировки объектов по весу, чем можно было бы ожидать случайно.Некоторые элементы плана эксперимента указывают на то, что детям нужно было не только копировать определенные двигательные действия взрослых, чтобы добиться успеха. Пространственное расположение тяжелых и легких предметов менялось между демонстрацией взрослого и периодом реакции. Это означает, что если бы дети повторили буквальные движения взрослого по поднятию и укладке, предметы не были бы сгруппированы по весу. Кроме того, объекты в каждом наборе выглядели одинаково — отсутствовали визуальные и слуховые подсказки для классификации объектов.Обнаружение сортировки по весу согласуется с аргументами о том, что категоризация детей не ограничивается рассмотрением только визуальных характеристик восприятия, но может включать рассмотрение невидимых и внутренних свойств объектов (например, Gelman and Wellman, 1991; Gelman, 2003).
Обширные предыдущие исследования показали, что понимание веса предметов является сложной познавательной задачей для детей тестируемого здесь возраста и даже старше (Piaget, 1951; Smith et al., 1985; Schrauf and Call, 2009; Schrauf et al., 2011; Повинелли, 2012). В частности, в дошкольном возрасте дети изо всех сил стараются учитывать это внутреннее и невидимое свойство в отсутствие коррелированных видимых сигналов (Smith et al., 1985). О глубоких трудностях с весом также сообщалось в сравнительной работе (Vonk and Povinelli, 2006; Schrauf and Call, 2009; Povinelli, 2012). Основное предположение, сделанное в этой статье, заключается в том, что социальное обучение и имитация могут побудить детей привлечь внимание и сделать когнитивные выводы о невидимом свойстве веса.
Итак, мы подошли к сути проблемы: что именно дети узнали о весе, наблюдая за действиями взрослых по сортировке? Одна из возможностей заключается в том, что они узнали, что предметы имеют разный вес. Поднимающие движения, используемые взрослым, могут быть одним из ключей к этому невидимому свойству. Наблюдение за подъемом в сочетании с намеренным сортирующим поведением взрослого могло побудить детей искать объяснение этому сложному поведенческому потоку. Хорошим кандидатом на объяснение может быть внутреннее невидимое свойство, такое как вес (соответствующие обсуждения см. В Legare et al., 2010; Легаре и Ломброзо, 2014; Мельцов, Гопник, 2013). Дополнительная возможность, не исключающая друг друга, состоит в том, что дети, возможно, уже имели представление о весе объекта и получили информацию о целях взрослого или о том, как вести себя в этой контекстной ситуации — люди сортируются по весу.
Важной характеристикой сортировки детей по весу в этом эксперименте является то, что ее можно было обобщить. Взрослый манипулировал только первым набором объектов, но дети из экспериментальной группы с одинаковой вероятностью разобрались в пробах обобщения.Этот вывод подчеркивает, что однажды абстрагированные правила могут применяться к новым объектам и в разных ситуациях. Таким образом, если ребенок учится учитывать вес при сборе дынь, он также может учитывать это невидимое свойство по отношению к другим типам предметов. В целом, эти текущие результаты показывают, что наблюдение за актом категоризации подтолкнуло детей к использованию веса с новыми предметами в новых испытаниях.
Имитация действия и познание
Некоторые дети с большей вероятностью имитировали подъемные действия, которые демонстрировали взрослые.Дети со средними оценками сортировки поднимали предметы в значительно большем количестве испытаний, чем дети с высокими оценками сортировки.
Одна из функций имитации действий других людей с высокой точностью состоит в том, что это может дать детям возможность обнаружить значение поведения, которое не понимается (Williamson and Markman, 2006). Независимо от того, понимают ли дети на самом деле более глубокую цель подъемных действий, дети на собственном опыте узнают о весе предметов, когда они имитируют подъемное поведение.Этот опыт, возможно, был менее важен для детей, которые легко усвоили правило сортировки (высокие сортировщики) — на самом деле они, возможно, осознали, что имитация подъемных действий не является необходимой для выполнения цели категоризации объектов по весу. Однако возможно, что имитация этих конкретных действий с высокой точностью помогла промежуточным сортировщикам обратить внимание или распознать разницу в весе и ее значимость, а затем использовать это свойство для классификации объектов. Хотя данные слишком ограничены, чтобы делать убедительные выводы, они поднимают интригующие связи между имитацией действия и когнитивным развитием — наблюдение за действием запускает производство действия, которое может направлять внимание, опыт и когнитивные изменения.
Межкультурные универсалии в подражании
В Китае, как правило, больше внимания уделяется конформизму и неявному выражению идей, чем в индивидуалистической американской культуре (Маркус и Китайма, 1991; Ойсерман и др., 2002). Однако, несмотря на различия в методах воспитания детей и культурных нормах, мы не обнаружили разницы в том, как дети имитируют проверенные здесь правила. Возможно, что культура оказывает влияние на имитацию правил, которое не было обнаружено в этом эксперименте с этим конкретным физическим правилом (vs.более психологическая атрибуция). Следует также признать, что дети как в США, так и в Китае набирались из семей среднего и высшего среднего класса, и с ростом глобализации возможно, что любые культурные различия, обусловленные традиционными практиками воспитания детей, не так ярко выражены в мире. люди близкого социально-экономического происхождения. Кроме того, дети дошкольного возраста могут не иметь достаточного культурного опыта, чтобы показать различия, которые могут проявиться позже; или может быть другой ход развития социальных правил и обычаев, чем тех, которые основаны на физических свойствах, таких как вес.Один из недавних примеров показал различный временной ход усвоения культурных стереотипов в отношении математики у детей, выросших в азиатской и североамериканской культуре (Cvencek et al., 2014).
Результаты настоящего исследования согласуются с растущим объемом исследований, показывающих сходство в подражании детям в разных культурах (например, Callaghan et al., 2011; Nielsen et al., 2014). Предыдущие исследования обычно были нацелены на воспроизведение определенных действий над объектами, в то время как текущее исследование было нацелено на воспроизведение абстрактного когнитивного правила, лежащего в основе такого поведения.Особенно на раннем этапе развития наблюдение и использование действий других может опираться в первую очередь на культурные универсалии. Дети во всем мире могут использовать имитацию аналогичным образом, чтобы узнавать новую обобщаемую информацию от других социальных агентов.
Заключение
Настоящее исследование содержит три статьи. Во-первых, это показывает, что подражание детям выходит за рамки воспроизведения определенных двигательных движений. Дети также подражают абстрактным правилам или стратегиям, которые определяют поведение, например правилам категоризации.Такая «абстрактная имитация» (Williamson et al., 2010) важна для приобретения детьми как инструментальных навыков, так и культурных практик. Во-вторых, это исследование также предполагает, что другой тип имитации, в частности имитация двигательных действий детей с высокой точностью, может служить рычагом в усвоении ими абстрактных когнитивных правил. Детям, которые не понимали демонстрации сортировки по весу, возможно, было бы полезно воспроизвести точные «подъемные» действия взрослых. Такое использование имитации буквального поведения в качестве механизма изучения правил заслуживает дополнительных исследований.В-третьих, это исследование расширяет предыдущие результаты кросс-культурного сходства в социальном обучении на область, выходящую за рамки имитации конкретных действий до имитации более обобщенных правил (правил категоризации). В целом, эти и другие результаты подтверждают мнение о том, что представление действий и имитация могут быть ключевыми механизмами для быстрого приобретения и распространения обобщаемых навыков, знаний и обычаев в человеческих культурах.
Заявление о конфликте интересов
Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.
Список литературы
Бойд Р. и Ричерсон П. Дж. (2005). Происхождение и эволюция культур . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.
Google Scholar
Бухсбаум, Д., Гопник, А., Гриффитс, Т. Л., и Шафто, П. (2011). На имитацию детьми последовательностей причинно-следственных связей влияют статистические и педагогические данные. Познание 120, 331–340. DOI: 10.1016 / j.cognition.2010.12.001
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Каллаган, Т., Moll, H., Rakoczy, H., Warneken, F., Liszkowski, U., Behne, T. и др. (2011). Раннее социальное познание в трех культурных контекстах. Monogr. Soc. Res. Child Dev. 76, 1–142. DOI: 10.1111 / j.1540-5834.2011.00603.x
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Cvencek, D., Meltzoff, A. N., and Kapur, M. (2014). Когнитивная последовательность и математико-гендерные стереотипы у сингапурских детей. J. Exp. Child Psychol. 117, 73–91. DOI: 10.1016 / j.jecp.2013.07.018
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Флинн, Э., и Уайтен, А. (2008). Культурная передача использования орудий труда у детей младшего возраста: исследование цепочки распространения. Soc. Dev. 17, 699–718. DOI: 10.1111 / J.1467-9507.2007.00453.X
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Гельман, С. А. (2003). Основное дитя: истоки эссенциализма в повседневной мысли . Нью-Йорк, Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.
Google Scholar
Херрманн, П.А., Легар К. Х., Харрис П. Л. и Уайтхаус Х. (2013). Придерживайтесь сценария: эффект наблюдения за несколькими актерами на подражание детям. Познание 129, 536–543. DOI: 10.1016 / j.cognition.2013.08.010
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Хорнер В. и Уайтен А. (2005). Знание причин и переключение имитации / подражания у шимпанзе ( Pan troglodytes ) и детей ( Homo sapiens ). Anim. Cogn. 8, 164–181. DOI: 10.1007 / S10071-004-0239-6
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Хосе П. Э., Хантсингер К. С., Хантсингер П. Р. и Лиау Ф. Р. (2000). Родительские ценности и обычаи, имеющие отношение к социальному развитию детей младшего возраста на Тайване и в Соединенных Штатах. J. Cross Cult. Psychol. 31, 677–702. DOI: 10.1177 / 0022022100031006002
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Легар, К. Х., Гельман, С. А., и Веллман, Х.М. (2010). Несоответствие предшествующим знаниям вызывает у детей причинно-следственные рассуждения. Child Dev. 81, 929–944. DOI: 10.1111 / j.1467-8624.2010.01443.x
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Loucks, J., и Meltzoff, A. N. (2013). Цели влияют на память и имитацию для динамических действий человека у 36-месячных детей. Сканд. J. Psychol. 54, 41–50. DOI: 10.1111 / sjop.12004
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Маркус, Х.Р., и Китайма, С. (1991). Культура и личность: последствия для познания, эмоций и мотивации. Psychol. Ред. 98, 224–253. DOI: 10.1037 / 0033-295X.98.2.224
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Маршалл П. Дж., Мельцов А. Н. (2014). Механизмы нейронного зеркального отображения и имитация у младенцев. Philos. Пер. R. Soc. Биол. Sci. 369, 20130620. DOI: 10.1098 / rstb.2013.0620
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Мельцов, А.Н., Гопник А. (2013). «Изучение разума на основе свидетельств: развитие у детей интуитивных теорий восприятия и личности», в «Понимание других умов», , 3-е изд., Редакторы С. Барон-Коэн, Х. Тагер-Флусберг и М. Ломбардо (Оксфорд: Оксфорд). University Press), 19–34.
Google Scholar
Мельцов А.Н., Уильямсон Р.А. (2013). «Подражание: социальные, когнитивные и теоретические перспективы», в Oxford Handbook of Developmental Psychology , Vol.1, изд. П. Р. Зелазо (Нью-Йорк, Нью-Йорк: издательство Оксфордского университета), 651–682.
Google Scholar
Нильсен, М., и Томаселли, К. (2010). Чрезмерное подражание у детей бушменов Калахари и истоки человеческого культурного познания. Psychol. Sci. 21, 729–736. DOI: 10.1177 / 0956797610368808
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Нильсен, М., Томаселли, К., Мушин, И., и Уайтен, А. (2014). Где культура укрепляется: «чрезмерное подражание» и его гибкое применение среди детей западных, аборигенов и бушменов. Child Dev. 85, 2169–2184. DOI: 10.1111 / cdev.12265
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Ойсерман, Д., Кун, Х. М., и Кеммельмайер, М. (2002). Переосмысление индивидуализма и коллективизма: оценка теоретических допущений и метаанализов. Psychol. Бык. 128, 3–72. DOI: 10.1037 / 0033-2909.128.1.3
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Пиаже, Дж. (1951). Психология интеллекта .Лондон: Routledge and Kegan Paul Ltd.
Google Scholar
Повинелли, Д. Дж. (2012). Мир без веса: взгляд инопланетян . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.
Google Scholar
Реддинг, С. Г., и Нг, М. (1982). Роль «лица» в организационном восприятии китайских менеджеров. Орган. Stud. 3, 201–219.
Google Scholar
Шрауф, К., Калл, Дж., И Пауэн, С. (2011). Влияние правдоподобной и неправдоподобной обратной связи по шкале баланса на ожидания детей от 3 до 4 лет. J. Cogn. Dev. 12, 518–536. DOI: 10.1080 / 15248372.2011.571647
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Шульц, Л. Е., Хуппелл, К., и Дженкинс, А. С. (2008). Разумное подражание: дети по-разному имитируют детерминистически и вероятностно эффективные действия. Child Dev. 79, 395–410. DOI: 10.1111 / j.1467-8624.2007.01132.x
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Смит, К., Кэри, С., и Уайзер, М.(1985). О дифференциации: тематическое исследование развития понятий размера, веса и плотности. Познание 21, 177–237. DOI: 10.1016 / 0010-0277 (85)
-3PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Субяул, Ф., Лурье, Х., Романски, К., Кляйн, Т., Холмс, Д., и Террас, Х. (2007a). Когнитивное подражание у типично развивающихся детей 3–4 лет и людей с аутизмом. Cogn. Dev. 22, 230–243. DOI: 10.1016 / J.Cogdev.2006.10,003
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Subiaul, F., Romansky, K., Cantlon, J.F., Klein, T., and Terrace, H. (2007b). Когнитивное подражание у 2-летних детей ( Homo sapiens ): сравнение с макаками-резусами ( Macaca mulatta ). Anim. Cogn. 10, 369–375. DOI: 10.1016 / J.Cogdev.2006.10.003
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Субяул, Ф., Паттерсон, Э. М., Шильдер, Б., Реннер, Э., и Барр, Р. (2014). Превосходство — суперуражитель: каков вклад социального и индивидуального обучения? Dev. Sci. doi: 10.1111 / desc.12276 [Epub перед печатью].
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Томаселло, М. (1999). Культурные истоки человеческого познания . Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета.
Google Scholar
Вонк, Дж., И Повинелли, Д. Дж. (2006). «Сходство и различие концептуальных систем приматов: гипотеза ненаблюдаемости», в Сравнительное познание: экспериментальные исследования интеллекта животных , ред. Т.Зенталл и Э. А. Вассерман (Oxford: Oxford University Press), 363–387.
Google Scholar
Вайсмайер А., Мельцов А. Н., Гопник А. (2015). Причинно-следственная связь с вероятностными событиями у 24-месячных детей: мера действия. Dev. Sci. 18, 175–182. DOI: 10.1111 / desc.12208
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Ван, Л., Фу, X., Циммер, Х. Д., и Ашерслебен, Г. (2012). Знакомство и сложность влияют на то, как дети имитируют действия с орудиями труда: кросс-культурное исследование. J. Cogn. Psychol. 24, 221–228. DOI: 10.1080 / 20445911.2011.617300
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Ван З., Мельцов А. Н., Уильямсон Р. А. (2015). Социальное обучение способствует пониманию физического мира: имитация сортировки веса детьми дошкольного возраста. J. Exp. Child Psychol. doi: 10.1016 / j.jecp.2015.02.010 [Epub перед печатью].
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Белого, А., Макгиган, Н., Маршалл-Пескини, С., и Хоппер, Л. М. (2009). Подражание, подражание, чрезмерное подражание и рамки культуры для ребенка и шимпанзе. Philos. Пер. R. Soc. B Biol. Sci. 364, 2417–2428. DOI: 10.1098 / rstb.2009.0069
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Уильямсон, Р. А., Ясвал, В. К., и Мельцов, А. Н. (2010). Изучение правил: наблюдение и имитация стратегии сортировки 36-месячными детьми. Dev. Psychol. 46, 57–65. DOI: 10.1037 / a0017473
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Уильямсон, Р. А., и Маркман, Э. М. (2006). Точность имитации в зависимости от понимания дошкольниками цели демонстрации. Dev. Psychol. 42, 723–731. DOI: 10.1037 / 0012-1649.42.4.723
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Теория социального обучения Альберта Бандуры
- Перспективы
- Бихевиоризм
- Теория социального обучения
Теория социального обучения Альберта Бандуры
Предложено Солом Маклеодом, обновлено 2016
9000 Теория социального обучения важность наблюдения, моделирования и имитации поведения, отношения и эмоциональных реакций других.Теория социального обучения рассматривает, как взаимодействуют факторы окружающей среды и когнитивные факторы, влияющие на обучение и поведение человека.
В теории социального обучения Альберт Бандура (1977) соглашается с бихевиористскими теориями обучения классической обусловленности и оперантной обусловленности. Однако он добавляет две важные идеи:
- Между стимулами и ответами происходят посреднические процессы.
- Поведение изучается из окружающей среды в процессе обучения с наблюдением.
Наблюдательное обучение
Дети наблюдают за поведением окружающих их людей по-разному. Это проиллюстрировано во время знаменитого эксперимента с куклой Бобо (Bandura, 1961).
Наблюдаемые люди называются моделями. В обществе детей окружают многие влиятельные модели, такие как родители в семье, персонажи детских телешоу, друзья из группы сверстников и учителя в школе. Эти модели предоставляют примеры поведения для наблюдения и имитации, например.g., мужское и женское, про и антисоциальное и т. д.
Дети обращают внимание на некоторых из этих людей (моделей) и кодируют их поведение. Позже они могут имитировать (то есть копировать) поведение, которое они наблюдали.
Они могут делать это независимо от того, является ли поведение «гендерно приемлемым» или нет, но есть ряд процессов, которые повышают вероятность того, что ребенок будет воспроизводить поведение, которое его общество считает подходящим для его пола.
Во-первых, ребенок с большей вероятностью будет уделять внимание тем людям, которых он считает похожими на себя, и подражать им.Следовательно, он с большей вероятностью будет имитировать поведение, моделируемое людьми того же пола.
Во-вторых, люди вокруг ребенка будут реагировать на поведение, которое он имитирует, либо поощрением, либо наказанием. Если ребенок имитирует поведение модели, и последствия будут вознаграждены, ребенок, скорее всего, продолжит такое поведение.
Если родитель видит маленькую девочку, утешающую своего плюшевого мишку, и говорит: «Какая ты добрая девочка», это является наградой для ребенка и повышает вероятность того, что она повторит такое поведение.Ее поведение было усилено (т. Е. Усилено).
Армирование может быть внешним или внутренним, а также положительным или отрицательным. Если ребенок хочет одобрения родителей или сверстников, это одобрение является внешним подкреплением, но чувство счастья от того, что его одобряют, — это внутреннее подкрепление. Ребенок будет вести себя так, как он считает, что заслужит одобрение, потому что он желает одобрения.
Положительное (или отрицательное) подкрепление будет иметь небольшое влияние, если подкрепление, предлагаемое извне, не соответствует индивидуальным потребностям.Подкрепление может быть положительным или отрицательным, но важным фактором является то, что оно обычно приводит к изменению поведения человека.
В-третьих, ребенок также будет учитывать, что происходит с другими людьми, когда решает, копировать ли чьи-то действия или нет. Человек учится, наблюдая за последствиями поведения другого человека (т. Е. Модели), например, младшая сестра, наблюдающая, как старшая сестра получает вознаграждение за определенное поведение, с большей вероятностью повторит это поведение сама.Это называется заместительным подкреплением.
Это относится к приставке к определенным моделям, которые обладают качествами, которые считаются полезными. У детей будет несколько моделей, с которыми они будут себя идентифицировать. Это могут быть люди из их непосредственного мира, такие как родители или старшие братья и сестры, или могут быть фантастическими персонажами или людьми из средств массовой информации. Мотивация идентифицировать себя с определенной моделью заключается в том, что они обладают качеством, которым человек хотел бы обладать.
Идентификация происходит с другим человеком (моделью) и включает в себя принятие (или принятие) наблюдаемого поведения, ценностей, убеждений и отношений человека, с которым вы идентифицируете себя.
Термин «идентификация», используемый в теории социального обучения, аналогичен фрейдистскому термину, относящемуся к эдипову комплексу. Например, они оба включают усвоение или принятие поведения другого человека. Однако во время Эдипова комплекса ребенок может идентифицировать себя только с родителем того же пола, тогда как с помощью теории социального обучения человек (ребенок или взрослый) потенциально может идентифицировать себя с любым другим человеком.
Идентификация отличается от имитации, поскольку она может включать в себя принятие ряда видов поведения, тогда как имитация обычно включает копирование одного поведения.
Посреднические процессы
SLT часто называют «мостом» между традиционной теорией обучения (то есть бихевиоризмом) и когнитивным подходом. Это потому, что он фокусируется на том, как умственные (когнитивные) факторы участвуют в обучении.
В отличие от Скиннера Бандура (1977) считает, что люди являются активными обработчиками информации и думают о взаимосвязи между своим поведением и его последствиями.
Наблюдательное обучение не могло происходить, если не работали когнитивные процессы.Эти психические факторы опосредуют (то есть вмешиваются) в процесс обучения, чтобы определить, получен ли новый ответ.
Следовательно, люди не наблюдают автоматически за поведением модели и не подражают ей. Есть некоторая мысль, предшествующая подражанию, и это соображение называется посредническими процессами. Это происходит между наблюдением за поведением (стимулом) и его имитацией (реакцией)
Бандура предлагает четыре опосредованных процесса:
- Внимание : Человек должен обращать внимание на поведение и его последствия и сформировать мысленное представление о поведении.Чтобы имитировать поведение, оно должно привлекать наше внимание. Мы ежедневно наблюдаем множество видов поведения, и многие из них не заслуживают внимания. Поэтому внимание чрезвычайно важно для того, влияет ли поведение на других, имитирующих его.
- Удержание : насколько хорошо запоминается поведение. Поведение можно заметить, но не всегда его запоминают, что, очевидно, препятствует подражанию. Поэтому важно, чтобы память о поведении сформировалась, чтобы наблюдатель мог выполнить ее позже.
Социальное обучение по большей части происходит не сразу, поэтому в таких случаях этот процесс особенно важен. Даже если поведение воспроизводится вскоре после его просмотра, необходимо иметь память, на которую можно ссылаться.
- Воспроизведение : Это способность выполнять поведение, которое только что продемонстрировала модель. Ежедневно мы видим много поведения, которое мы хотели бы имитировать, но это не всегда возможно. Мы ограничены нашими физическими возможностями, и по этой причине, даже если мы хотим воспроизвести поведение, мы не можем.
Это влияет на наши решения, пытаться имитировать или нет. Представьте себе сценарий 90-летней женщины, которая изо всех сил пытается ходить, наблюдая за «Танцами на льду». Она может оценить, что это умение желательно, но не будет пытаться имитировать его, потому что физически не может этого сделать.
- Мотивация : Воля к выполнению поведения. Награды и наказания, которые следуют за поведением, будут учитываться наблюдателем. Если предполагаемое вознаграждение перевешивает предполагаемые затраты (если таковые имеются), то наблюдатель с большей вероятностью будет имитировать поведение.Если косвенное подкрепление не будет рассматриваться как достаточно важное для наблюдателя, он не будет имитировать поведение.
Критическая оценка
Подход социального обучения учитывает мыслительные процессы и признает роль, которую они играют в принятии решения, следует ли имитировать поведение или нет. Таким образом, SLT дает более полное объяснение человеческого обучения, признавая роль посреднических процессов.
Например, теория социального обучения способна объяснить гораздо более сложные формы социального поведения (такие как гендерные роли и моральное поведение), чем модели обучения, основанные на простом подкреплении.
Однако, хотя он может объяснить довольно сложное поведение, он не может адекватно объяснить, как мы развиваемся. целый спектр поведения, включая мысли и чувства. У нас есть большой когнитивный контроль над нашими поведение и просто потому, что мы пережили насилие, не означает, что мы должны воспроизводить такое поведение.
Именно по этой причине Бандура изменил свою теорию и в 1986 году переименовал свою теорию социального обучения. Социальная когнитивная теория (SCT), как лучшее описание того, как мы учимся на нашем социальном опыте.
Некоторые критические замечания в адрес теории социального обучения проистекают из их приверженности окружающей среде как главному влиянию на поведение. Ограничено описывать поведение исключительно с точки зрения природы или воспитания, и попытки сделать это недооценивают сложность человеческого поведения. Более вероятно, что поведение является результатом взаимодействия между природой (биологией) и воспитанием (окружающей средой).
Теория социального обучения не может полностью объяснить поведение. Это особенно верно, когда в жизни человека нет очевидного образца для подражания, который можно было бы подражать определенному поведению.
Открытие зеркальных нейронов оказало биологическую поддержку теории социального обучения. Хотя исследования находятся в зачаточном состоянии. Недавнее открытие «зеркальных нейронов» у приматов может представлять собой неврологическая основа для имитации. Это нейроны, которые срабатывают, если животное что-то делает само, и если он наблюдает за действием, совершаемым другим.
Как ссылаться на эту статью: Как ссылаться на эту статью:McLeod, S.А. (2016, 05 февраля). Бандура — теория социального обучения . Просто психология. https://www.simplypsychology.org/bandura.html
Ссылки на стиль APABandura, A. (1986). Социальные основы мысли и действия: социальная когнитивная теория . Prentice-Hall, Inc.
Bandura, A. (1977). Теория социального обучения . Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси: Prentice Hall.
Бандура, А. Росс, Д., и Росс, С. А. (1961). Передача агрессии через имитацию агрессивных моделей. Journal of Abnormal and Social Psychology , 63, 575-582
Как ссылаться на эту статью: Как ссылаться на эту статью:McLeod, S.A. (2016, 5 февраля). Бандура — теория социального обучения . Просто психология. https://www.simplypsychology.org/bandura.html
сообщить об этом объявленииИмитация (обучение) | Психология вики
Оценка |
Биопсихология |
Сравнительный |
Познавательный |
Развивающий |
Язык |
Индивидуальные различия |
Личность |
Философия |
Социальные |
Методы |
Статистика |
Клиническая |
Образовательная |
Промышленное |
Профессиональные товары |
Мировая психология |
Социальная психология: Альтруизм · Атрибуция · Отношение · Соответствие · Дискриминация · Группы · Межличностные отношения · Послушание · Предрассудки · Нормы · Восприятие · Индекс · Контур
Эта статья требует внимания психолога / академического эксперта по предмету .
Пожалуйста, помогите нанять одного или улучшите эту страницу самостоятельно, если у вас есть квалификация.
Этот баннер появляется на слабых статьях, к содержанию которых следует подходить с академической осторожностью.
.
Файл: Makak neonatal imitation.pngНоворожденная макака-резус имитирует высунутый язык.
Имитация — это продвинутое поведение, при котором человек наблюдает и копирует поведение другого. Это слово можно применять во многих контекстах, от дрессировки животных до международной политики.
Антропология и социальные науки [править | править источник]
В антропологии теории диффузии объясняют, почему культуры имитируют идеи или практики других культур. Некоторые теории утверждают, что все культуры подражают идеям одной или нескольких исходных культур, библейского Адама или нескольких пересекающихся культурных кругов. Теория эволюционной диффузии утверждает, что культуры находятся под влиянием друг друга, но подобные идеи могут развиваться изолированно.
Сьюзан Блэкмор в книге The Meme Machine утверждала, что имитация делает людей уникальными среди животных. [Как сделать ссылку и ссылку на резюме или текст] Подражание могло быть выбрано как подходящее в результате эволюции, потому что те, кто был хорош в этом, имели в своем распоряжении более широкий арсенал изученного культурного поведения, такого как изготовление инструментов или даже язык. [Как сделать ссылку и ссылку на резюме или текст]
В середине 20 века социологи начали изучать, как и почему люди имитируют идеи. Эверетт Роджерс был пионером исследований в области распространения инноваций, используя исследования для подтверждения факторов принятия и профилей приверженцев идей.
Исследования человеческого мозга с помощью фМРТ выявили сеть областей в нижней лобной и нижней теменной коре головного мозга, которые обычно активизируются во время имитационных задач [1] . Было высказано предположение, что эти области содержат зеркальные нейроны, подобные зеркальным нейронам, зарегистрированным в макаках [2] . Однако неясно, подражают ли макаки друг другу в дикой природе.
Невролог В.С. Рамачандран утверждает, что эволюция зеркальных нейронов сыграла важную роль в приобретении человеком сложных навыков, таких как язык, и считает открытие зеркальных нейронов важнейшим достижением в нейробиологии. [3] Однако мало доказательств прямо поддерживает теорию о том, что активность зеркальных нейронов участвует в когнитивных функциях, таких как эмпатия или обучение посредством имитации [4] . Дальнейшие исследования по этим темам продолжаются.
Среди ученых ведутся споры о том, могут ли животные на самом деле имитировать новые действия или же имитация является уникальной особенностью человека. [5] Текущая полемика частично связана с разными определениями подражания. Определение Торндайка «научиться выполнять действие, наблюдая за его выполнением» [6] имеет два основных недостатка: во-первых, использование «видения» ограничивает имитацию визуальной областью и исключает e.грамм. вокальная имитация и, во-вторых, она также будет включать такие механизмы, как прайминг, заразительное поведение и социальное содействие [7] , которые большинство ученых хотят отличать от имитации как отдельные формы обучения с помощью наблюдений. Торп предложил определить подражание как «копирование романа или иным образом невероятного действия или высказывания, или какого-либо действия, к которому явно нет инстинктивной тенденции» [8] . Это определение одобряется многими учеными, хотя были подняты вопросы, насколько строго следует толковать термин «роман» и как точно исполненное действие должно соответствовать демонстрации, чтобы считаться копией.В 1952 году Hayes & Hayes [9] использовали процедуру «Делай как я», чтобы продемонстрировать имитационные способности своего обученного шимпанзе «Вики». Их исследование неоднократно подвергалось критике за субъективность в интерпретации ответов испытуемого. Повторения этого исследования [10] обнаружили гораздо более низкие степени соответствия между субъектами и их моделями. Тем не менее, имитационные исследования, сфокусированные на верности копирования, получили новый импульс в результате недавнего исследования Voelkl и Huber [11] .Они провели подробный анализ траекторий движения модельных обезьян и обезьян-наблюдателей и обнаружили высокую степень совпадения в их образцах движения. Параллельно с этими исследованиями сравнительные психологи использовали экспериментальные схемы, в которых они предоставляли инструменты или устройства, с которыми можно было обращаться по-разному. С такой парадигмой Хейес [12] [13] и его коллеги сообщили о доказательствах имитации у крыс, которые подтолкнули рычаг в том же направлении, что и их модели, хотя позже они отозвали свои утверждения из-за методологических проблем в своих моделях. исходная установка [14] .Пытаясь разработать парадигму тестирования, которая была бы менее произвольной, чем нажатие на рычаг влево или вправо, Кастанс и его сотрудники [15] представили парадигму «искусственного плода», в которой небольшой объект можно было открыть в различных условиях. способы извлечения пищи, помещенной внутри объекта — мало чем отличаются от фруктов с твердой скорлупой. Используя эту парадигму, ученые сообщили о доказательствах подражания у обезьян [16] [17] и обезьян [18] [19] [20] .Остается проблема с такими исследованиями использования инструментов (или устройств): то, что животные могут узнать в таких исследованиях, не обязательно должно быть фактическими моделями поведения (то есть действиями), которые наблюдались. Вместо этого они могут узнать о некоторых эффектах в окружающей среде (например, о том, как движется инструмент или как он работает). Этот тип обучения с наблюдением, которое фокусируется на результатах, а не на действиях, получил название эмуляции (см. Эмуляция (обучение с наблюдением)).
- ↑ Марко Якобони, Роджер П.Вудс, Марсель Брасс, Гарольд Беккеринг, Джон К. Мацциотта, Джакомо Риццолатти, Корковые механизмы имитации человека, Science 286: 5449 (1999)
- ↑ Риццолатти Г., Крейгеро Л., Система зеркальных нейронов, Ежегодный обзор нейробиологии. 2004; 27: 169-92.
- ↑ В.С. Рамачандран, Зеркальные нейроны и имитационное обучение как движущая сила «большого скачка вперед» в эволюции человека. Edge Foundation. Проверено 16 ноября 2006.
- ↑ Dinstein I, Thomas C, Behrmann M, Heeger DJ (2008).Зеркало до натуры. Curr Biol 18 (1): R13–8.
- ↑ Zentall, T.R. (2006). Имитация: определения, доказательства и механизмы. Познание животных, 9, 335-353. Полный текст
- ↑ Торндайк, Э. (1898). Животный интеллект. «Психологические обзоры монографии 2», № 8.
- ↑ Heyes, C.M. и Б.Г.Дж. Галеф, (1996). «Социальное обучение животных: корни культуры». Сан-Диего, Academic Press.
- ↑ Thorpe, W.H. (1963).«Обучение и инстинкт у животных». Лондон, Метуэн.
- ↑ Hayes, K.J. и Хейс, К. (1952). Имитация домашнего шимпанзе. «Журнал сравнительной и физиологической психологии, 45», 450-459.
- ↑ Кастанс, Д.-М., Уайтен, А., Бард, К.А. (1995). Могут ли молодые шимпанзе (Pan troglodytes) имитировать произвольные действия? Возвращение к Hayes и Hayes (1952). «Поведение, 132,». 837-859.
- ↑ Voelkl, B. и Huber, L. (2007): Имитация как точное копирование новой техники у мартышек.«PLoS one 2 (7)», e611. Полный текст
- ↑ Heyes, C.M., Dawson, G.R. и Нокс, Т. (1992). Имитация у крыс: первоначальный ответ и передача доказательств. «Ежеквартальный журнал экспериментальной психологии, 45 B», 229–240.
- ↑ Heyes, C.M. и Доусон, Г. (1990). Демонстрация обучения наблюдению на крысах с использованием двунаправленного контроля. «Ежеквартальный журнал экспериментальной психологии, 42 B», 59-71.
- ↑ Heyes, C.M., Ray, E.D., Mitchell, C.J. и Nokes, T. (2000).Повышение стимула: средства управления социальной поддержкой и местным улучшением. «Обучение и мотивация, 31», 83–98.
- Перейти ↑ Custance, D., Whiten, A., and Fredman, T. (1999). Социальное изучение задачи искусственного плода у обезьян-капуцинов (Cebus apella). «Журнал сравнительной психологии, 113,» 13-23.
- ↑ Бугняр Т. и Хубер Л. (1997). Тяни или толкай: экспериментальное исследование имитации мартышек. «Поведение животных, 1997», 817-831.
- ↑ Voelkl, B. и Huber, L.Истинная имитация у мартышек. «Поведение животных, 60», 195-202.
- ↑ Whiten, A., Custance, D.M., Gomez, J.C., Teixidor, P., and Bard, K.A. (1996). Имитационное обучение искусственной переработке фруктов у детей (Homo sapiens) и шимпанзе (Pan troglodytes). «Журнал сравнительной психологии 110», 3–14.
- ↑ Стоинский, Т. С. Врейт, Дж. Л. Уре, Н. Уайтен, А. (2001). Имитационное обучение содержащихся в неволе западных низинных горилл (горилла горилла горилла) в имитационной задаче по переработке пищевых продуктов.«Журнал сравнительной психологии, 115», 272–281.
- Перейти ↑ Whiten, A., Horner, V., Litchfield, C.A., and Marshall-Pescini, S. (2004). Как обезьяны обезьяны? «Обучение и поведение 32», 36–52.
Книги [править | править источник]
статей [править | править источник]
Книги [править | править источник]
статей [править | править источник]
- Caldwell, CA И Уайтен, А. (2002). Эволюционные взгляды на имитацию: возможна ли сравнительная психология социального обучения? Познание животных , 5: 193-208.Полный текст
Поиск
- Где угодно
Поиск Поиск
Расширенный поиск- Войти | регистр
- Подписка / продление
- Учреждения
- Индивидуальные подписки
- Индивидуальное продление
- Библиотекари
- тарифы и полные платежи 905 Пакет Чикаго
- Полный охват и охват содержимого
- Файлы KBART и RSS-каналы
- Разрешения и перепечатки
- Инициатива развивающихся стран Чикаго
- Даты отправки и претензии
- Часто задаваемые вопросы библиотекарей
- Агенты,
- Тарифы, заказы
- и платежи
- Полный пакет Chicago
- Полный охват и содержание
- Даты отправки и претензии
- Часто задаваемые вопросы агента
- О нас
- Публикуйте у нас
- Недавно приобретенные журналы
- tners
- Подпишитесь на уведомления eTOC
- Пресс-релизы
- СМИ
- Книги издательства Чикагского университета
- Распределительный центр в Чикаго
- Чикагский университет
- Положения и условия
- Заявление об издательской этике
- Уведомление о конфиденциальности
- Доступность Chicago Journals
- Доступность университета
- Следуйте за нами на facebook
- Следуйте за нами в Twitter
- Свяжитесь с нами
- Медиа и рекламные запросы
- Открытый доступ в Чикаго
- Следуйте за нами на facebook
- Следуйте за нами в Twitter
Имитация: определения, доказательства и механизмы
Akins CK, Klein ED, Zentall TR (2002) Имитационное обучение японского перепела ( Coturnix japonica ) с использованием процедуры двунаправленного контроля.Anim Learn Behav 30: 275–281
PubMed Google Scholar
Akins CK, Zentall TR (1996) Имитационное обучение самцов японского перепела ( Coturnix japonica ) с использованием метода двух действий. J Comp Psychol 110: 316–320
PubMed CAS Статья Google Scholar
Akins CK, Zentall TR (1998) Имитация японского перепела: роль подкрепления реакции демонстранта.Психон Булл Ред. 5: 694–697
Google Scholar
Армстронг EA (1951) Природа и функция мимесиса животных. Bull Anim Behav 9: 46–49
Google Scholar
Ball J (1938) Случай явной имитации обезьяны. J Genet Psychol 52: 439–442
Google Scholar
Бандура А. (1969) Социальная теория обучения идентификационных процессов.В кн .: Гослин Д.А. (ред.) Справочник по теории и исследованиям социализации. Rand-McNally, Чикаго, стр. 213–262
Google Scholar
Баптиста Л.Ф., Петринович Л. (1984) Социальное взаимодействие, чувствительные фазы и гипотеза шаблона песни у белого коронованного воробья. Anim Behav 32: 172–181
Статья Google Scholar
Байрофф А.Г., Лард К.Е. (1944) Экспериментальное социальное поведение животных.III. Имитационное обучение белых крыс. J Comp Physiol Psychol 37: 165–171
Google Scholar
Bjorklund DF, Bering JM (2003) Заметка о развитии отложенной имитации у инкультурированных молодых шимпанзе ( Pan troglodytes ). Разработка Rev 23: 389-412
Google Scholar
Бойд Р., Ричерсон П.Дж. (1988) Эволюционная модель социального обучения: эффект пространственных и временных вариаций.В: Zentall TR, Galef BG Jr (ред.) Социальное обучение: Психологические и биологические перспективы. Эрлбаум, Хиллсдейл, Нью-Джерси, стр. 29–48
Google Scholar
Breuggeman JA (1973) Родительский уход в группе свободно выгуливаемых макак-резусов. Folia Primatol 20: 178–210
PubMed CAS Google Scholar
Brown PL, Jenkins HM (1968) Автоматическое формирование ключевого клюва голубя.J Exp Anal Behav 11: 1–8
PubMed CAS Статья Google Scholar
Банч Г.Б., Зенталл Т.Р. (1980) Имитация реакции пассивного избегания у крысы. Bull Psychon Soc 15: 73–75
Google Scholar
Бирн Р.В. (1994) Эволюция интеллекта. В: Slater PJB, Halliday TR (eds) Поведение и эволюция. Cambridge University Press, Кембридж, Великобритания, стр. 223–265
Google Scholar
Бирн Р.В. (2002) Имитация новых сложных действий: что означают свидетельства, полученные от животных? Adv Stud Behav 31: 77–105
Google Scholar
Бирн Р.В. (2005) Социальное познание: имитация, имитация, имитация.Curr Biol 15: 498–500
Статья CAS Google Scholar
Caldwell CA, Whiten A (2002) Эволюционные взгляды на имитацию: возможна ли сравнительная психология социального обучения? Anim Cogn 5: 193–208
PubMed Статья Google Scholar
Call J (2001) Имитация тела у инкультурированного орангутана ( Pongo pygmaeus ). Cybernet Syst 32: 97–119
Статья Google Scholar
Chesler P (1969) Материнское влияние на обучение посредством наблюдения за котятами.Наука 166: 901–903
PubMed CAS Статья Google Scholar
Church RM (1957) Две процедуры для установления подражательного поведения. J Comp Physiol Psychol 50: 315–318
PubMed CAS Статья Google Scholar
Корсон Дж. А. (1967) Наблюдательное обучение реакции на нажатие рычага. Psychon Sci 7: 197–198
Google Scholar
Кастанс Д.М., Бард К.А. (1994) Сравнительное и развивающее исследование самопознания и подражания: важность социальных факторов.В: Parker ST, Mitchell RW, Boccia ML (ред.) Самосознание у людей и животных: перспективы развития. Cambridge University Press, Кембридж, Великобритания, стр. 207–226
Google Scholar
Custance DM, Whiten A, Bard KA (1995) Могут ли молодые шимпанзе имитировать произвольные действия? Возвращение к Хейсу и Хейсу. Поведение 132: 839–858
Google Scholar
Custance DM, Whiten A, Fredman T (1999) Социальное обучение искусственных плодов обезьян-капуцинов ( Cebus apella ).J Comp Psychol 113: 13–23
Статья Google Scholar
Davitz JR, Mason DJ (1955) Социально облегченное снижение реакции страха у крыс. J Comp Physiol Psychol 48: 149–151
PubMed CAS Статья Google Scholar
Доусон Б.В., Фосс Б.М. (1965) Наблюдательное обучение волнистых попугаев. Анимационное поведение 13: 470–474
PubMed CAS Статья Google Scholar
Del Russo JE (1971) Наблюдательное обучение у крыс с капюшонами.Psychon Sci 24: 37–45
Google Scholar
Del Russo JE (1975) Наблюдательное обучение дискриминационному избеганию у крыс с капюшонами. Anim Learn Behav 3: 76–80
Google Scholar
Денни М.Р., Клос К.Ф., Белл Р.К. (1988) Изучение у крысы реакции выбора путем наблюдения за непредвиденными обстоятельствами S-S. В: Zentall TR, Galef BG Jr (ред.) Социальное обучение: Психологические и биологические перспективы.Эрлбаум, Хиллсдейл, Нью-Джерси, стр. 207–223
Google Scholar
Дорранс Б.Р., Зенталл Т.Р. (2001) Имитационное обучение японского перепела зависит от мотивационного состояния наблюдателя во время наблюдения. J Comp Psychol 115: 62–67
PubMed CAS Статья Google Scholar
Дугаткин Л.А. (1992) Половой отбор и имитация: самки копируют выбор партнера другими.Am Nat 139: 1384–1389
Статья Google Scholar
Дугаткин Л.А. (1996) Копирование и выбор сопряжения. В: Heyes CM, Galef BG (eds) Социальное обучение у животных: корни культуры. Academic, Сан-Диего, Калифорния, стр. 85–105
Google Scholar
Дугаткин Л.А., Годин Ю.Г. (1992) Обращение выбора самки путем копирования. Proc R Soc Lond B 249: 179–184
CAS Google Scholar
Эдвардс CA, Hogan DE, Zentall TR (1980) Имитация аппетитно-дискриминационной задачи голубями.Bird Behav 2: 87–91
Google Scholar
Фиорито Дж., Скотто П. (1992) Наблюдательное обучение в Octopus vulgaris . Science 256: 545–546
Статья PubMed CAS Google Scholar
Фишер Дж., Хайнде Р.А. (1949) Дальнейшие наблюдения по открытию птицами бутылок с молоком. Br Birds 42: 347–357
Google Scholar
Galef BG Jr (1988a) Передача информации, касающейся удаленного питания у социальных, центральных видов, добывающих пищу: Rattus norvegicus .В: Zentall TR, Galef BG Jr (ред.) Социальное обучение: Психологические и биологические перспективы. Эрлбаум, Хиллсдейл, Нью-Джерси, стр. 119–139
Google Scholar
Galef BG Jr (1988b) Имитация у животных: история, определение и интерпретация данных психологической лаборатории. В: Zentall TR, Galef BG Jr (ред.) Социальное обучение: Психологические и биологические перспективы. Эрлбаум, Хиллсдейл, Нью-Джерси, стр. 3–28
Google Scholar
Galef BG Jr (1996) Социальное усиление пищевых предпочтений у норвежских крыс: краткий обзор.В: Heyes CM, Galef BG (eds) Социальное обучение у животных: корни культуры. Academic, Сан-Диего, Калифорния, стр. 49–64
Google Scholar
Galef BG Jr, Durlach PJ (1993) Отсутствие блокирования, затенения и скрытого торможения в социальном повышении пищевых предпочтений. Anim Learn Behav 21: 214–220
Google Scholar
Галеф Б.Г. младший, Манциг Л.А., Филд Р.М. (1986) Имитационное обучение волнистых попугаев: еще раз доусон и Фосс (1965).Поведенческие процессы 13: 191–202
Статья Google Scholar
Gallese V, Fadiga L, Fogassi L, Rizzolatti G (1996) Распознавание действий в премоторной коре. Мозг 119: 593–609
PubMed Google Scholar
Gallup GG Jr (1970) Шимпанзе: самопознание. Наука 167: 86–87
Статья Google Scholar
Гарсия Дж., Келлинг Р.А. (1966) Связь реплики со следствием в обучении избеганию.Psychon Sci 4: 123–124
Google Scholar
Гарднер Э.Л., Энгель Д.Р. (1971) Имитационные и социальные фасилитирующие аспекты обучения с помощью наблюдений у лабораторных крыс. Psychon Sci 25: 5–6
Google Scholar
Gergely G, Bekkering H, Király I (2002) Рациональное подражание у довербальных младенцев. Nature 415: 755
PubMed CAS Google Scholar
Gleissner B, Meltzoff AN, Bekkering H (2000) Детское кодирование действий человека: когнитивные факторы, влияющие на подражание у 3-летних детей.Dev Sci 3: 405–414
Статья Google Scholar
Гибсон Дж. (1979) Экологический подход к визуальному восприятию. Houghton Mifflin, Бостон
Google Scholar
Groesbeck RW, Duerfeldt PH (1971) Некоторые важные переменные в наблюдательном обучении крысы. Psychon Sci 22: 41–43
Google Scholar
Заяц Б., Зов Дж., Агнетта Б., Томаселло М. (2000) Шимпанзе знают, что сородичи видят и чего не видят.Анимационное поведение 59: 771–785
PubMed Статья Google Scholar
Заяц Б., Томаселло М. (2005) Ответ: гипотеза эмоциональной реактивности и когнитивная эволюция. Trends Cogn Sci 9: 464–465
Статья Google Scholar
Харуки Ю., Цузуки Т. (1967) Обучение подражанию и обучение через подражание у белой крысы. Анну Аним Психол 17: 57–63
Google Scholar
Hayes KJ, Hayes C (1952) Имитация домашнего шимпанзе.J Comp Physiol Psychol 45: 450–459
PubMed CAS Статья Google Scholar
Хеннинг Дж. М., Зенталл Т. Р. (1981) Подражание, социальная помощь и влияние АКТГ 4-10 на поведение крыс при барпрессе. Am J Psychol 94: 125–134
PubMed CAS Статья Google Scholar
Герберт MJ, Harsh CM (1944) Наблюдательное обучение кошек. J Comp Psychol 37: 81–95
Статья Google Scholar
Hess EH (1973) Оттиск.Van Nostrand / Reinhold, Нью-Йорк
Google Scholar
Heyes CM (1994) Размышления о самопознании у приматов. Anim Behav 47: 909–919
Статья Google Scholar
Heyes CM, Dawson GR (1990) Демонстрация обучения наблюдению на крысах с использованием двунаправленного контроля. Q J Exp Psychol B 42: 59–71
PubMed CAS Google Scholar
Heyes CM, Jaldow E, Dawson GR (1994) Имитация у крыс: условия возникновения в процедуре двунаправленного контроля.Learn Motiv 25: 276–287
Статья Google Scholar
Heyes CM, Ray ED (2000) Какое значение имеет подражание у животных. Adv Stud Behav 29: 215–245
Статья Google Scholar
Hinde RA (ed) (1969) Птичьи вокализации. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания
Google Scholar
Hogan DE (1988) Научное подражание голубям.В: Zentall TR, Galef BG Jr (ред.) Социальное обучение: Психологические и биологические перспективы. Эрлбаум, Хиллсдейл, Нью-Джерси, стр. 225–238
Google Scholar
Hoogland JL, Sherman PW (1976) Преимущества и недостатки колониальности банковской ласточки ( Riparia riparia ). Ecol Monogr 46: 33–58
Артикул Google Scholar
Хаффман М.А. (1996) Изучение нечеловеческой культуры приматов в Японии.В: Heyes CM, Galef BG (eds) Социальное обучение у животных: корни культуры. Academic, Сан-Диего, Калифорния, стр. 267–289
Google Scholar
Джейкоби К.Э., Доусон М.Э. (1969) Наблюдение и формирование обучения: сравнение с использованием крыс Лонг-Эванса. Psychon Sci 16: 257–258
Google Scholar
Джон Э.Р., Чеслер П., Бартлетт Ф., Виктор I (1968) Наблюдательное обучение у кошек.Science 159: 1489–1491
Статья PubMed CAS Google Scholar
Kaiser DH, Zentall TR, Galef BG Jr (1997) Можно ли объяснить имитацию голубей локальным улучшением вместе с обучением методом проб и ошибок? Psychol Sci 8: 459–465
Статья Google Scholar
Кляйн Э.Д., Зенталл Т.Р. (2003) Имитационное и аффордансное обучение голубей ( Columba livia ).J Comp Psychol 117: 414–419
PubMed Статья Google Scholar
Кон Б. (1976) Наблюдение и обучение различению у крыс: эффекты замены стимула. Learn Motiv 7: 303–312
Статья Google Scholar
Кон Б., Деннис М. (1972) Наблюдение и распознавание обучения у крыс: специфические и неспецифические эффекты. J Comp Physiol Psychol 78: 292–296
PubMed CAS Статья Google Scholar
Ковач Дж. К., Гесс Э. Х. (1963) Импринтинг: эффекты болезненной стимуляции на следующую реакцию.J Comp Physiol Psychol 56: 461–464
PubMed CAS Статья Google Scholar
Лефевр Л., Паламета Б. (1988) Механизмы, экология и популяционная диффузия социально усвоенного поведения при поиске пищи у одичавших голубей. В: Zentall TR, Galef BG Jr (ред.) Социальное обучение: Психологические и биологические перспективы. Эрлбаум, Хиллсдейл, Нью-Джерси, стр. 141–164
Google Scholar
Левин Дж. М., Зенталл Т. Р. (1974) Влияние присутствия сородичей на ограниченную производительность крыс: социальное содействие против отвлечения / имитации.Anim Learn Behav 2: 119–122
Google Scholar
Lore R, Blanc A, Suedfeld P (1971) Эмпатическое обучение реакции пассивного избегания у одомашненных Rattus norvegicus . Anim Behav 19: 112–114
Статья Google Scholar
Лоренц К. (1935) Der Kumpan in der Umwelt des Vogels: der Artgenosse als ausloesendes Moment sozialer Verhaltensweisen.J Fur Ornithol 83: 137–213, 289–413
Статья Google Scholar
Марлер П. (1970) Сравнительный подход к обучению вокалу: Развитие песни у воробьев с белой короной. J Comp Physiol Psychol 71: 1–25
Статья Google Scholar
Мельцов А.Н. (1988) Человеческий младенец как homo imitans . В: Zentall TR, Galef BG Jr (ред.) Социальное обучение: Психологические и биологические перспективы.Эрлбаум, Хиллсдейл, Нью-Джерси, стр. 319–341
Google Scholar
Майлз Х.Л., Митчелл Р.В., Харпер С.Е. (1996) Саймон говорит: Развитие имитации у окультурированного орангутана. В: Руссон А.Е., Бард К.Э., Паркер С.Т. (ред.) Вникать в мысль: умы человекообразных обезьян. Cambridge University Press, Кембридж, Великобритания, стр. 278–299
Google Scholar
Mineka S, Cook M (1988) Социальное обучение и приобретение змеиного страха у обезьян.В: Zentall TR, Galef BG Jr (ред.) Социальное обучение: Психологические и биологические перспективы. Эрлбаум, Хиллсдейл, Нью-Джерси, стр. 51–75
Google Scholar
Mitchell CJ, Heyes CM, Dawson GR (1999) Ограничения двунаправленной контрольной процедуры для исследования имитации у крыс: запахи манипуландума. Q J Exp Psychol 52: 193–202
Google Scholar
Mitchell RW (1987) Сравнительно-развивающий подход к пониманию подражания.В: Bateson PPG, Klopfer PH (eds) Perspectives in ethology, vol 7. Plenum, New York, pp 183–215
Google Scholar
Митчелл Р.В. (2002) Имитация как процесс восприятия. В: Неханив К.Л., Даутенхан К. (ред.) Имитация животных и артефактов. Массачусетский технологический институт, Кембридж, Массачусетс, стр. 441–469
Google Scholar
Мур Б.Р. (1992) Имитация движения птиц и новая форма мимикрии: прослеживание эволюции сложной формы обучения.Поведение 122: 231–263
Google Scholar
Моррисон Б.Дж., Хилл В.Ф. (1967) Снижение реакции страха у крыс, выращиваемых группами или изолированно, при содействии общества. J Comp Physiol Psychol 63: 71–76
PubMed CAS Статья Google Scholar
Nguyen NH, Klein ED, Zentall TR (2005) Имитация голубями последовательностей двух действий. Психон Булл Ред. 12: 514–518
PubMed Google Scholar
Nottebohm F (1970) Онтогенез птичьего пения.Science 167: 950–956
Статья PubMed CAS Google Scholar
Oldfield-Box H (1970) Комментарии к двум предварительным исследованиям «наблюдательного» обучения у крыс. Дж. Генет Психол 116: 45–51
Google Scholar
Паламета Б., Лефевр Л. (1985) Социальная передача метода поиска пищи у голубей: чему учатся? Anim Behav 33: 892–896
Статья Google Scholar
Пепперберг И.М. (1986) Приобретение аномальных коммуникативных систем: значение для исследований межвидовой коммуникации.В: Шустерман Р., Томас Дж., Вуд Ф. (ред.) Поведение и познание дельфинов: сравнительные и этологические аспекты. Эрлбаум, Хиллсдейл, Нью-Джерси, стр. 289–302
Google Scholar
Пепперберг И.М. (1988) Важность социального взаимодействия и наблюдения в приобретении коммуникативной компетенции: возможные параллели между обучением птиц и человека. В: Zentall TR, Galef BG Jr (ред.) Социальное обучение: Психологические и биологические перспективы.Эрлбаум, Хиллсдейл, Нью-Джерси, стр. 279–299
Google Scholar
Пепперберг И.М. (1990) Референтное отображение. Appl Psycholinguist 11: 23–44
Статья Google Scholar
Piaget J (1962) Игра, мечты и подражание в детстве. Хортон, Нью-Йорк
Google Scholar
Робертс Д. (1941) Подражание и внушение у животных.Bull Anim Behav 1: 11–19
Google Scholar
Руссон А.Е., Галдикас BMF (1993) Имитация у бывших содержащихся в неволе орангутанов ( Pongo pygmaeus ). J Comp Psychol 107: 147–161
PubMed CAS Статья Google Scholar
Санавио Э., Саварди У. (1980) Наблюдательное обучение крысам распознавания избегания челнока. Psychol Rep 44: 1151–1154
Google Scholar
Sordahl TA (1981) Незначительное крыло.Nat Hist 90: 42–49
Google Scholar
Спенс К.В. (1937) Дифференциальная реакция животных на стимулы, варьирующиеся в одном измерении. Psychol Rev 44: 430–444
Статья Google Scholar
Стимберт В.Е. (1970) Сравнение обучения на основе социальных и несоциальных дискриминирующих стимулов. Psychon Sci 20: 185–186
Google Scholar
Strupp BJ, Levitsky DA (1984) Социальная передача пищевых предпочтений у взрослых крыс с капюшоном ( Rattus norvegicus ).J Comp Psychol 98: 257–266
Статья Google Scholar
Таннер Дж., Бирн Р.В. (1999) Имитация в неволе низинной горилле: спонтанный эксперимент. Университет Сент-Эндрюс, Файф, Шотландия, неопубликованная рукопись
Thorpe WH (1961) Птичья песня: Биология голосового общения и выражения у птиц. Издательство Гарвардского университета, Кембридж, Массачусетс
Google Scholar
Thorpe WH (1963) Обучение и инстинкт у животных, 2-е изд.Издательство Гарвардского университета, Кембридж, Массачусетс
Google Scholar
Thorpe WH (1967) Вокальная имитация и антифонная песня и ее значение. В: Снежный DW (ред) Труды XVI Международного орнитологического конгресса. Блэквелл, Оксфорд, Великобритания, стр. 245–263
Google Scholar
Тинберген Н. (1960) Мир серебристой чайки. Даблдэй, Гарден-Сити, Нью-Йорк
Google Scholar
Тодт Д. (1975) Социальное обучение голосовым моделям и способам их применения у серых попугаев.Zeitschrift für Tierpsychologie 39: 178–188
Google Scholar
Толман К.В. (1964) Социальное облегчение пищевого поведения домашних цыплят. Anim Behav 12: 245–251
Статья Google Scholar
Tomasello M (1996) Обезьяны обезьяны? В: Heyes CM, Galef BG (eds) Социальное обучение у животных: корни культуры. Academic, Сан-Диего, Калифорния, стр. 319–346
Google Scholar
Tomasello M, Kruger AC, Ratner HH (1993) Культурное обучение.Behav Brain Sci 16: 495–552
Статья Google Scholar
Turner GJR (1984) Мимикрия: спектр вкусовых качеств и его последствия. В: Вэйн-Райт Р.И., Экери П.Р. (ред.) Биология бабочек. Academic, New York, pp. 141–161
. Google Scholar
Ванаян М., Робертсон Х., Бидерман Г.Б. (1985) Наблюдательное обучение у голубей: влияние навыков модели на работу наблюдателя.J Gen Psychol 112: 349–357
Статья Google Scholar
Voelkl B, Huber L (2000) Истинная имитация у мартышек. Анимационное поведение 60: 195–202
PubMed Статья Google Scholar
Надзиратель CJ, Джексон Т.А. (1935) Имитационное поведение макаки-резуса. Дж. Генет Психол 46: 103–125
Google Scholar
Ватанабе С., Хубер Л. (2006) Логика животных: решения в отсутствие человеческого языка.Anim Cogn DOI 10.1007 / s10071-006-0043-6
Weigle PD, Hanson EV (1980) Обучение наблюдению и пищевое поведение красной белки ( Tamiasciurus hudsonicus ): онтогенез оптимизации. Экология 61: 213–218
Статья Google Scholar
Whiten A (1998a) Эволюционные и эволюционные истоки системы чтения мыслей. В: Langer J, Killen M (eds) Piaget, эволюция и развитие.Эрлбаум, Хиллсдейл, Нью-Джерси, стр. 73–99
Google Scholar
Whiten A (1998b) Имитация последовательной структуры действий шимпанзе ( Pan troglodytes ). J Comp Psychol 112: 270–281
PubMed CAS Статья Google Scholar
Whiten A, Custance DM, Gomez J-C, Teixidor P, Bard KA (1996) Имитационное обучение искусственной переработке фруктов у детей ( Homo sapiens ) и шимпанзе ( Pan troglodytes ).J Comp Psychol 110: 3–14
PubMed CAS Статья Google Scholar
Whiten A, Goodall J, McGrew WC, Nishida T, Reynolds V, Sugiyama Y, Tutin CEG, Wrangham RW, Boesch C (1999) Культуры на шимпанзе. Природа 399: 682-685
Google Scholar
Whiten A, Ham R (1992) О природе и эволюции подражания в животном мире: переоценка столетних исследований.В: Slater PJB, Rosenblatt JS, Beer C, Milinski M (eds) «Достижения в изучении поведения», том 21. Academic, New York, стр. 239–283
Google Scholar
Whiten A, Horner V, Marshall-Pescini S (2004) Избирательная имитация у ребенка и шимпанзе: окно в конструкцию действий других. В: Hurley S, Chater N (eds) Перспективы имитации: от зеркальных нейронов к мемам: том 1. Механизмы имитации и имитации у животных.Массачусетский технологический институт, Кембридж, Массачусетс, стр. 263–283
Google Scholar
Will B, Pallaud B, Soczka M, Manikowski S (1974) Имитация «стратегий» нажатия рычага во время оперантного кондиционирования крыс-альбиносов. Anim Behav 22: 664–671
Статья Google Scholar
Зайонц РБ (1965) Социальная помощь. Наука 149: 269–274
PubMed CAS Статья Google Scholar
Zentall TR, Edwards CA, Hogan DE (1983) Использование идентичности голубями.В: Commons ML, Herrnstein RJ, Wagner A (eds) Количественный анализ поведения: процессы дискриминации, том 4. Баллинджер, Кембридж, Массачусетс, стр. 273–293
Google Scholar
Zentall TR, Hogan DE (1975) Клевание ключа у голубей производится путем сочетания ключевого света с недоступным зерном. J Exp Anal Behav 23: 199–206
PubMed Статья CAS Google Scholar
Zentall TR, Hogan DE (1976) Имитация и социальная поддержка голубя.Anim Learn Behav 4: 427–430
Google Scholar
Zentall TR, Levine JM (1972) Наблюдательное обучение и социальная поддержка у крыс. Наука 178: 1220–1221
Статья PubMed CAS Google Scholar
Зенталл Т.Р., Саттон Дж., Шерберн Л.М. (1996) Истинное имитационное обучение у голубей. Psychol Sci 7: 343–346
Статья Google Scholar
Подражание — Энциклопедия Нового Мира
Подражание — это продвинутое поведение, при котором действие вызывается наблюдением человека и последующим воспроизведением поведения другого.Таким образом, это основа обучения с наблюдением и социализации. Способность имитировать включает признание действий другого человека соответствующими одним и тем же физическим частям тела наблюдателя и их движениям. Некоторые предполагают, что эта способность является инстинктивной, в то время как другие рассматривают ее как форму обучения более высокого уровня. Многие теории и идеи, связанные с подражанием, могут применяться во многих дисциплинах.
Хотя точные процессы, посредством которых происходит имитация, оспариваются, как и возраст, в котором люди обладают способностью имитировать, и какие другие виды обладают такими же способностями, ясно, что способность имитировать является очень мощным обучением. инструмент.Посредством подражания люди и другие виды могут передавать техники и навыки без необходимости в подробных словесных инструкциях. Таким образом, как только один человек нашел решение проблемы, его новаторство может быть быстро умножено в его сообществе и за его пределами. С другой стороны, поведение, наносящее вред другим, например предрассудки, расовая дискриминация и агрессия, также легко имитируется. Таким образом, служит ли подражание благу общества или злу, зависит от исходной модели поведения и способности наблюдающих различать и действовать в соответствии с их суждением о том, следует ли им подражать.
Психология
В психологии подражание — это обучение поведению посредством наблюдения за другими. Подражание является синонимом моделирования и изучается на людях и животных социологами в различных контекстах.
Дети учатся, подражая взрослым. Их мощная способность имитировать — которая хорошо им помогает во многих ситуациях — может на самом деле привести к замешательству, когда они видят, что взрослый делает что-то неорганизованным или неэффективным образом. Они будут повторять ненужные шаги, даже неправильные, которые, по их наблюдениям, выполнял взрослый, переосмысливая цель объекта или задачи на основе наблюдаемого поведения, явление, называемое «чрезмерной имитацией».»
Все это означает, что способность детей к подражанию может на самом деле привести к замешательству, когда они видят, как взрослый делает что-то неорганизованным или неэффективным образом. Наблюдение за взрослым, делающим что-то неправильно, может значительно усложнить задачу детям. Это верно (Lyons, Young, and Keil, 2007)
Исследования младенцев
Некоторые из фундаментальных исследований подражания младенцам проводились Жаном Пиаже (1951), Уильямом Макдугаллом (1908) и Полем Гийомом (1926). Работа Пиаже, пожалуй, самая известная и легла в основу теорий развития ребенка.
Работа Пиаже включает значительный объем экспериментальных данных, которые подтверждают его модель шести стадий развития подражания:
- Стадия 1: подготовка к подражанию, облегченная посредством рефлексов на внешние раздражители.
- Этап 2: Время спорадической имитации, когда ребенок включает новые жесты или голосовые имитации, которые четко воспринимаются.
- Этап 3: Имитация звуков и движений, которые ребенок уже сделал или наблюдал.
- Этап 4: Ребенок может подражать окружающим, даже когда движения не видны.
- Этап 5: Подражание становится более систематическим, и ребенок усваивает эти невидимые движения.
- Этап 6: Известный как отложенная имитация, этот этап процесса относится к имитации, которая не происходит немедленно или в присутствии демонстратора. Теперь ребенок может усвоить серию моделей на основе внешних стимулов.
Пиаже утверждал, что младенцы путают действия других со своими собственными. Младенцы будут реагировать на плач другого младенца своим собственным, а младенцы в возрасте от четырех до восьми месяцев будут имитировать выражение лица своих опекунов.В своей книге « Игра, сновидения и подражание в детстве » Пиаже утверждал, что это наблюдаемое поведение младенца можно понимать как «псевдоимитацию» из-за отсутствия преднамеренных усилий со стороны младенца. Скопированное выражение младенцев для него было скорее рефлексом, чем проявлением эмоций. Пиаже также рассматривал подражание как шаг между интеллектом и сенсомоторной реакцией и утверждал, что интернализация убеждений, ценностей или эмоций — это способность ребенка намеренно имитировать что-то из своего окружения.
Другие не согласны с позицией Пиаже. Знаменательное исследование 1977 года, проведенное Эндрю Мельцовым и Китом Муром, показало, что младенцы от 12 до 21 дня могут подражать взрослым, которые поджимают губы, высовывают язык, открывают рот и вытягивают пальцы. Они утверждали, что это поведение нельзя объяснить ни с помощью обусловливания, ни с точки зрения врожденных механизмов высвобождения, но это истинная форма подражания. Последующие исследования новорожденных подтвердили эту позицию. Такая имитация подразумевает, что новорожденные люди могут приравнивать свое собственное невидимое поведение к жестам, которые, как они видят, выполняют другие, в той степени, в которой они способны имитировать.
Исследования на животных
Беспилотная муха проявляет бейтсовскую мимикрию, напоминая медоносную пчелу. Тарелка Генри Уолтера Бейтса (1862), иллюстрирующая бейтсовскую мимикрию между видами Dismorphia (верхний ряд, третий ряд) и различными Ithomiini (Nymphalidae) (второй ряд, нижний ряд) ).Имитируемое поведение животных можно понять через социальное влияние. Социальное влияние — это любое влияние, которое один организм может оказывать на другой, приводящее к аналогичному поведению другого организма. Факторы, которые типичны для видов и внутри них, — это мимикрия и инфекция.Мимикрия включает в себя имитацию внешнего вида двух видов. Мимикрия Мертенса или Бейтса возникает, когда животное принимает физический облик или поведение другого вида, который имеет лучшую защиту, таким образом представляясь хищникам имитируемым видом. Заражение, которое также можно назвать Немезидой, происходит, когда два или более животных проявляют поведение, типичное для их вида. Яркие примеры заразительного поведения — ухаживание, выпас, стайство и еда.
При изучении имитационного поведения животных одно животное обычно наблюдает за другим животным, которое проявляет новое поведение, которое было усвоено посредством классической или оперантной обусловленности.Приобретение поведения у животного, которое наблюдает за выполненной новой реакцией, понимается как имитация. Приобретение имитации животным новой реакции может быть объяснено как мотивационными факторами, такими как социальное облегчение пребывания рядом с другим животным, поощрение через стимулы, так и приобретение новой реакции, чтобы избежать отвращающего стимула. Также присутствуют факторы восприятия, в которых последствия демонстратора привлекают внимание наблюдающего животного.
Neuroscience
Новорожденная макака имитирует высунутый язык.Исследования в области нейробиологии показывают, что в человеческом мозге существуют определенные механизмы имитации. Было высказано предположение, что существует система «зеркальных нейронов». Эти зеркальные нейроны срабатывают как когда животное выполняет действие, так и когда животное наблюдает за тем же действием, выполняемым другим животным, особенно с таким же животным. Эта система зеркальных нейронов наблюдалась у людей, приматов и некоторых птиц.У человека зеркальные нейроны локализуются в области Брока и нижней теменной коре головного мозга. Некоторые ученые считают открытие зеркальных нейронов одним из самых важных открытий в области нейробиологии за последнее десятилетие.
Исследование Мелтцова и Мура (1977) показало, что новорожденные люди могут имитировать мимику взрослых людей. Несколько исследований на новорожденных шимпанзе обнаружили аналогичную способность. Считалось, что эта способность была ограничена человекообразными обезьянами. Однако открытие, что у макак-резусов есть «зеркальные нейроны» — нейроны, которые активируются как когда обезьяны наблюдают, как другое животное выполняет действие, так и когда они выполняют то же действие, — предполагает, что они обладают общей нейронной структурой для восприятия и действия, связанной с подражанием.Исследование показало, что младенцы-резусы действительно могут имитировать определенные человеческие мимические жесты — жесты, которые обезьяны используют для общения (Gross 2006).
Антропология
В антропологии теории распространения объясняют феномен культур, имитирующих идеи или практики других. Некоторые теории утверждают, что все культуры подражают идеям одной или нескольких исходных культур, возможно, создавая серию пересекающихся культурных кругов. Теория эволюционной диффузии утверждает, что культуры находятся под влиянием друг друга, но также утверждает, что подобные идеи могут развиваться изолированно друг от друга.
Социология
В социологии подражание было предложено в качестве основы социализации и распространения инноваций.
Социализация относится к процессу познания своей культуры и того, как жить в ней. Для человека он предоставляет ресурсы, необходимые для действий и участия в жизни общества. Для общества социализация — это средство сохранения культурной преемственности. Социализация начинается, когда человек рождается, когда он входит в социальную среду, где встречается с родителями и другими опекунами.Там взрослые передают детям свои правила социального взаимодействия своим примером (которому дети, естественно, подражают), а также поощрением и дисциплиной.
Изучение распространения инноваций — это изучение того, как, почему и с какой скоростью распространяются новые идеи и технологии в культурах. Французский социолог Габриэль Тард первоначально утверждал, что такое развитие было основано на небольших психологических взаимодействиях между людьми, при этом фундаментальные силы — подражание и новаторство.Таким образом, он предположил, что, как только новатор разработал новую идею или продукт, имитация идеи или ее использование будет той силой, которая позволила ей распространиться.
Теория диффузии инноваций была формализована Эвереттом Роджерсом в его книге под названием Распространение инноваций (1962). Роджерс заявил, что людей, которые принимают любые новые инновации или идеи, можно разделить на новаторов, первых последователей, раннее большинство, позднее большинство и отстающих. Готовность и способность каждого пользователя внедрить нововведение будет зависеть от его осведомленности, интереса, оценки, испытания и принятия.Некоторые характеристики каждой категории последователей включают:
- новаторов — азартные, образованные, многочисленные источники информации, большая склонность к риску
- первых последователей — социальные лидеры, популярные, образованные
- раннее большинство — сознательные, многие неформальные социальные контакты
- позднее большинство — скептически, традиционно, более низкий социально-экономический статус
- отстающих — соседи и друзья являются основными источниками информации, боязнь долга
Роджерс также предложил пятиэтапную модель распространения инноваций:
- Знание — изучение существования и функции инновации
- Убеждение — убеждение в ценности инновации
- Решение — принятие решения о внедрении инновации
- Реализация — применение
- Подтверждение — окончательное принятие или отклонение инно vation
Роджерс предположил, что инновации будут распространяться в обществе в логистической функции, известной как S-образная кривая, поскольку первые последователи сначала выбирают технологию, а затем большинство, пока технология или инновация не станут обычным явлением.
Скорость внедрения технологии определяется двумя характеристиками: p , которая представляет собой скорость, с которой происходит внедрение, и q , скорость, с которой происходит дальнейший рост. Более дешевая технология может иметь более высокое значение p , например, взлетает быстрее, в то время как технология, имеющая сетевые эффекты (например, факсимильный аппарат, где стоимость элемента увеличивается по мере того, как его получают другие), может иметь более высокое значение q .
Критики теории распространения инноваций предполагают, что это чрезмерно упрощенное представление сложной реальности. Ряд других явлений может повлиять на скорость принятия инноваций. Во-первых, эти клиенты часто адаптируют технологии к своим потребностям, поэтому нововведение может фактически изменять свой характер по мере увеличения числа пользователей. Во-вторых, прорывные технологии могут радикально изменить модели распространения уже существующих технологий, создав конкурирующую S-образную кривую.Наконец, зависимость от пути может заблокировать определенные технологии. Примером этого может быть клавиатура QWERTY.
Список литературы
- Гросс, Лиза. Эволюция неонатальной имитации Эволюция неонатальной имитации. PLoS Biol 4 (9), 2006: e311. Проверено 21 февраля 2008 г.
- Гийом, Поль. [1926] 1973. Подражание детям . Издательство Чикагского университета. ISBN 978-0226310466
- Лайонс, Дерек, Эндрю Янг и Фрэнк Кейл. 2007. «Тайна чрезмерного подражания» Труды Национальной академии наук , 3 декабря 2007 г.
- Макдугалл, Уильям. 2001 г. (1908 г., переработка 1912 г.). Введение в социальную психологию . Адамант Медиа Корпорация. ISBN 1421223236
- Мельцов, Эндрю Н. и М. Кейт Мур. 1977 г. «Имитация лицевых и мануальных жестов новорожденными людьми» Science 7 октября 1977: Vol. 198. нет. 4312, с. 75-78.
- Пиаже, Жан П. [1951] 1962. Игра, мечты и подражание в детстве . Нью-Йорк, Нью-Йорк: Нортон. ISBN 978-0393001716
- Роджерс, Эверетт М.[1962] 2003 г. Распространение инноваций . Нью-Йорк, Нью-Йорк: Свободная пресса. ISBN 0743222091
- Уивер, Жаклин. 2007. Люди кажутся запрограммированными на обучение путем «чрезмерного подражания». Получено 21 февраля 2008 г.
- Wyrwicka, Wanda. 1995. Подражание в поведении человека и животных . Нью-Брансуик, Нью-Джерси: Издатели транзакций. ISBN 978-1560002468
- Зенталл, Том и Чана Акинс. Имитация животных: доказательства, функции и механизмы Проверено 21 февраля 2008 г.
Источники
Энциклопедия Нового Света писателей и редакторов переписали и завершили статью Википедия в соответствии со стандартами New World Encyclopedia . Эта статья соответствует условиям лицензии Creative Commons CC-by-sa 3.0 (CC-by-sa), которая может использоваться и распространяться с указанием авторства.