Моральные чувства и их виды
Для того чтобы объяснить, что такое моральные чувства, следует для начала определить, что такое чувства вообще. Итак, если сравнивать такие понятия, как «восприятие», «ощущения», «мышление» с «чувством», то в первом случае мы просто отображаем воспринятое нами, во втором же мы проявляем своё непосредственное отношение к происходящему. Чувства – это личностное отношение индивида к познаваемому и к самому себе.
Различают высшие (нравственные, эстетические, интеллектуальные) и низшие (удовлетворение физических и физиологических потребностей) чувства.
Моральные чувства возникают под влиянием общества. В каждом социуме существуют определенные рамки дозволенного. К примеру, то, что принято у славян, может быть отвергнуто арабами, и наоборот. Общество устанавливает свои нормы, затем человек вбирает в себя эти нормы и живет в соответствии с ними. Что же будет, если конкретная личность откажется действовать в соответствии с моралью?
В случае несоблюдения этих норм, человек может вызвать отрицательное отношение к себе, которое выражается в чувствах угрызения совести, вины, стыда. Также туда можно отнести чувства зависти, жалости, ревности. Вне всякого общества у человека не было бы понятия о приличии или неприличии своих поступков, о красоте или уродстве своего лица и т.д. И всё же, как понять, что такое «норма» и кем она устанавливается?
Также туда можно отнести чувства зависти, жалости, ревности. Вне всякого общества у человека не было бы понятия о приличии или неприличии своих поступков, о красоте или уродстве своего лица и т.д. И всё же, как понять, что такое «норма» и кем она устанавливается?
В последнее время в мире произошли изменения, переоценки ценностей. Как по мне, в социальной сфере самым заметным изменением является сексуальная революция. То, что считалось раньше безнравственным – сейчас поднимается до нормы. К примеру, на данный момент считается нормой, что невеста до свадьбы уже не девственница, в былые времена подобная оплошность была бы позором на весь род и презрением девушки блюстителями морали.
Другой пример. Моральным ли будет убийство человека? Как по мне, однозначный ответ дать нельзя. Нужно смотреть по обстоятельствам, по контексту. Было ли это в целях самозащиты, возможно, это была месть или это просто действие на основе алчности? Исходя из ответа, можно сделать вывод о моральности и судить, будет ли это преступлением вообще.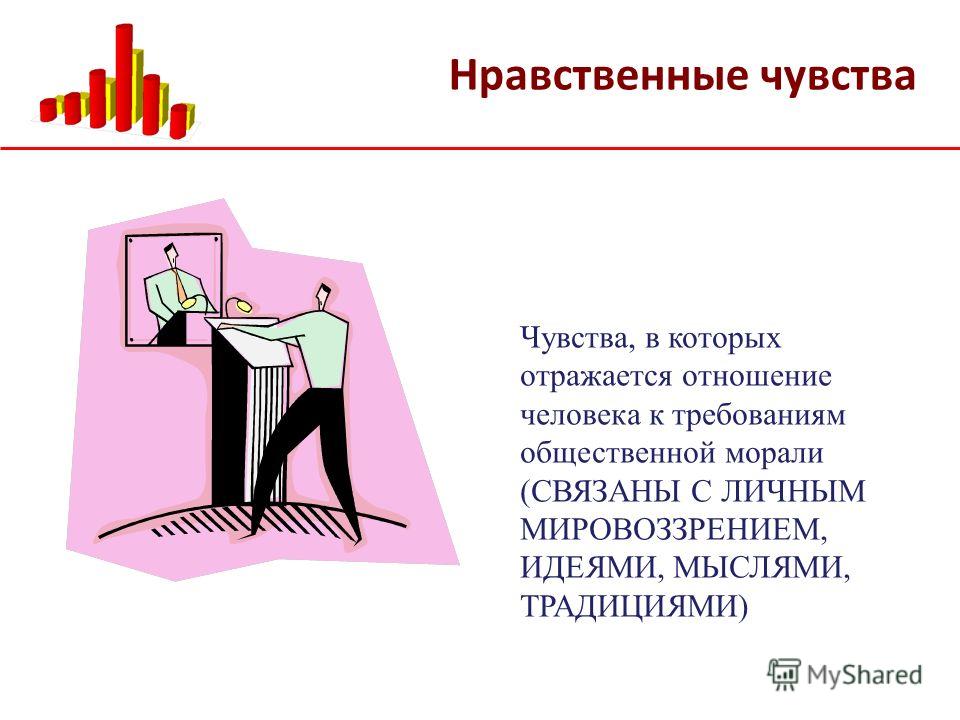
Эти примеры я привожу для того, чтобы показать, что мораль
Что же тогда будет мерилом морали, как не черно-белое разделение на «хорошо» и «плохо»? Я полагаю, что нельзя однозначно сказать, что всё нехорошее – плохое, и наоборот, всё неплохое – хорошее. Если основой морали является совесть – то задачей правильного её взращивания у человека будет демонстрация того, что только широкий кругозор и гибкое мышление отдельно взятого человека, а не всего общества, может иметь право быть мерилом, ибо общество часто может ошибаться, будучи попросту однобоким.
И всё же, мораль нам нужна для того, чтобы поддерживать видимость порядка в обществе. Мораль нужна нам также, как и религия, ведь они помогают контролировать людей. Ведь не было бы у нас нравственных понятий – мы бы просто вернулись к истокам первобытного устоя. Мораль – это отражение степени развития социума и она является неотъемлемой частью его градации.
Мораль – это отражение степени развития социума и она является неотъемлемой частью его градации.
Итак, чтобы подытожить сказанное, хотелось бы сделать акцент на ряде понятий:
Чувство – это наша реакция на происходящее вокруг;
Моральное чувство – это наша реакция на определенные нравственные ценности, которые сформировались под влиянием общества.
Моральные чувства, наравне с эстетическими и интеллектуальными, относятся к высшим чувствам, тогда как к низшим чувствам относится удовлетворение физических и физиологических потребностей.
Моральные чувства — это… Что такое Моральные чувства?
- Моральные чувства
- — переживания, связанные с морально-нравственной оценкой окружающей действительности, самого себя, системы межличностных отношений.
Психология человека от рождения до смерти.
- Монологическая речь
- Морфологические элементы
Смотреть что такое «Моральные чувства» в других словарях:
НРАВСТВЕННЫЕ ЧУВСТВА, МОРАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА — чувства, переживаемые людьми при восприятии явлений действительности и сравнение этих явлений с нормами, выработанными обществом. К нравственным чувствам относят чувство долга, гуманность, доброжелательность, любовь, дружбу, патриотизм,… … Профессиональное образование. Словарь
ЧУВСТВА — (моральные) эмоциональная сторона духовной деятельности личности, характеризующая наряду с убеждениями ее субъективную моральную позицию. По своей психологической природе Ч. это устойчивые условно рефлекторные образования в сознании человека,… … Словарь по этике
чувства — высшая форма эмоционального отношения человека к предметам и явлениям действительности, отличающаяся относительной устойчивостью, обобщенностью, соответствием потребностям и ценностям, сформированным в его личностном развитии.
 В отличие от… … Большая психологическая энциклопедия
В отличие от… … Большая психологическая энциклопедияЧУВСТВА НРАВСТВЕННЫЕ — – чувства справедливости, долга, чести, совести, достоинства и т. д. Ч. н. подготавливают, настраивают поведение и деятельность личности в соответствии с принятыми правилами и требованиями. Ч. н. включают единство рационального и эмоционального и … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике
НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА ТЕОРИИ — разновидность аппробативных теорий; субъективно идеалистические этические концепции, в к рых происхождение морали и ее природа объясняются посредством особого рода чувств, присущих человеку. Школа Н. ч. существовала в Англии в XVII XVIII вв. (А.… … Словарь по этике
СУЖДЕНИЯ МОРАЛЬНЫЕ — СУЖДЕНИЯ МОРАЛЬНЫЕ суждения (высказывания), выражающие моральную оценку “X есть добро (зло)” или норму, предписание “Должно (запрещено) (осуществить) X”. В естественном языке суждения морали выражаются в разнообразных языковых конструкциях… … Философская энциклопедия
ЭМОТИВИЗМ — (англ.
 emotive волнующий, возбуждающий, от лат. emoveo волную, потрясаю) метаэтическая теория, согласно которой главная функция этических (оценочных и императивных) высказываний выражать эмоции говорящего и возбуждать соответствующие чувства и… … Философская энциклопедия
emotive волнующий, возбуждающий, от лат. emoveo волную, потрясаю) метаэтическая теория, согласно которой главная функция этических (оценочных и императивных) высказываний выражать эмоции говорящего и возбуждать соответствующие чувства и… … Философская энциклопедияЭмоции — (от фр. emotion волнение, возбуждение) субъективные состояния человека и животных, связанные с оценкой значимости для индивида действующих на него внешних или внутренних раздражителей и выражающиеся, прежде всего, в форме непосредственных… … Википедия
Эмоциональность — Эмоции (от фр. emotion волнение, возбуждение) субъективные состояния человека и животных, связанные с оценкой значимости для индивида действующих на него внешних или внутренних раздражителей и выражающиеся, прежде всего, в форме… … Википедия
НРАВСТВЕННОЙ САНКЦИИ ТЕОРИИ — или а п п р о б а т и в н а я э т и к а (от лат. approbatio – одобрение, санкция), – класс этич.

73. ПРИЗНАКИ МОРАЛЬНЫХ ЧУВСТВ. Теория справедливости
73. ПРИЗНАКИ МОРАЛЬНЫХ ЧУВСТВ
В следующих разделах я буду обсуждать несколько аспектов трех стадий морали более детально. Понятие морального чувства, природа трех психологических законов и процесс, благодаря которому они выполняются, требуют дальнейших комментариев. Обращаясь к первому из этих вопросов, я должен объяснить, что буду использовать старый термин «чувство» (sentiment) для обозначения постоянных упорядоченных семейств управляющих диспозиций, таких как чувство справедливости и человеческая любовь (§ 30), а также постоянной привязанности к конкретным индивидам или ассоциациям, которая занимает центральное место в жизни человека. Итак, у нас есть моральные и естественные чувства. Термин «установка» (attitude) я использую более широко.
Главные черты моральных чувств могут быть, вероятно, наилучшим образом прояснены посредством рассмотрения разных вопросов, которые возникают при попытке охарактеризовать их, и различных переживаний, в которых они проявляются17. Стоит рассмотреть их отличие как друг от друга, так и от тех естественных установок и чувств, с которыми их можно спутать. Так, прежде всего, возникают следующие вопросы, (а) Каковы те лингвистические выражения, которые используются для выражения конкретного морального чувства, и каковы существенные вариации, если таковые имеются, этих выражений? (б) Каковы характерные поведенческие признаки данного чувства и каковы способы, которыми человек обычно показывает, что он чувствует? (в) Каковы характерные ощущения и кинестетические чувства, если таковые имеются, которые связаны с моральными эмоциями? Когда человек сердится, он, например, ощущает жар; он может дрожать и испытывать спазмы живота. Он может быть не в состоянии говорить без дрожи в голосе; и, возможно, он не может воздержаться от жестикуляции. Если имеются такого рода характерные ощущения и поведенческие проявления морального чувства, они не составляют чувства вины, стыда, возмущения и т. п. Эти характерные ощущения и проявления не являются ни необходимыми, ни достаточными в конкретных случаях чувства вины у какого-то человека, стыда или возмущения. Это не значит отрицания того, что некоторые характерные ощущения и поведенческие проявления волнения могут быть необходимыми, если человек переполнен чувством вины, стыда или возмущения. Но для наличия этих чувств часто достаточно того, что человек искренне говорит, что он чувствует вину, стыд или возмущение и что он готов дать подходящее объяснение того, почему он чувствует это (в предположении, конечно, что он принимает это объяснение как правильное).
Он может быть не в состоянии говорить без дрожи в голосе; и, возможно, он не может воздержаться от жестикуляции. Если имеются такого рода характерные ощущения и поведенческие проявления морального чувства, они не составляют чувства вины, стыда, возмущения и т. п. Эти характерные ощущения и проявления не являются ни необходимыми, ни достаточными в конкретных случаях чувства вины у какого-то человека, стыда или возмущения. Это не значит отрицания того, что некоторые характерные ощущения и поведенческие проявления волнения могут быть необходимыми, если человек переполнен чувством вины, стыда или возмущения. Но для наличия этих чувств часто достаточно того, что человек искренне говорит, что он чувствует вину, стыд или возмущение и что он готов дать подходящее объяснение того, почему он чувствует это (в предположении, конечно, что он принимает это объяснение как правильное).
Это последнее наблюдение ставит главный вопрос об отличении моральных чувств от других эмоций и друг от друга, а именно: (г) Каков определяющий тип объяснения, требуемый для наличия морального чувства, и как объяснение одного чувства отличается от объяснения другого? Так, когда мы спрашиваем кого-либо, почему он чувствует вину, какого ответа мы ожидаем? Конечно, не всякий ответ приемлем. Простого указания на предполагаемое наказание недостаточно; это могло бы быть объяснением страха или боязни, но не чувства вины. Аналогично, упоминание вреда или неприятностей, которые выпали человеку вследствие прошлых его поступков, объясняют чувства сожаления, но не вины, и, тем более, не чувство раскаяния. Конечно, страх и боязнь часто сопровождают чувство вины по вполне понятным причинам, но эти эмоции не должны быть смешиваемы с моральными чувствами. Мы не должны предполагать, таким образом, что переживание вины есть нечто вроде смеси страха, боязни и сожаления. Боязнь и страх не являются нравственными чувствами вообще, а сожаление связано с некоторым видением нашего собственного блага, будучи результатом, скажем, неудачи в продвижении наших интересов некоторым благоразумным образом. Даже такие явления, как невротическое чувство вины и другие специальные случаи, воспринимаются как чувство вины, а не просто как иррациональные страхи и боязнь со специальным объяснением отклонения от нормы.
Простого указания на предполагаемое наказание недостаточно; это могло бы быть объяснением страха или боязни, но не чувства вины. Аналогично, упоминание вреда или неприятностей, которые выпали человеку вследствие прошлых его поступков, объясняют чувства сожаления, но не вины, и, тем более, не чувство раскаяния. Конечно, страх и боязнь часто сопровождают чувство вины по вполне понятным причинам, но эти эмоции не должны быть смешиваемы с моральными чувствами. Мы не должны предполагать, таким образом, что переживание вины есть нечто вроде смеси страха, боязни и сожаления. Боязнь и страх не являются нравственными чувствами вообще, а сожаление связано с некоторым видением нашего собственного блага, будучи результатом, скажем, неудачи в продвижении наших интересов некоторым благоразумным образом. Даже такие явления, как невротическое чувство вины и другие специальные случаи, воспринимаются как чувство вины, а не просто как иррациональные страхи и боязнь со специальным объяснением отклонения от нормы. В таких случаях всегда предполагается, что более глубокое психологическое исследование откроет (или уже открыло) существенное сходство этих ощущений вины.
В таких случаях всегда предполагается, что более глубокое психологическое исследование откроет (или уже открыло) существенное сходство этих ощущений вины.
Вообще, необходимым признаком моральных чувств и частью того, что отличает их от естественных установок, является то, что объяснение человеком его переживаний опирается на моральные понятия и связанные с ними принципы. Его объяснение своих чувств сводится к познанию правильного и неправильного (того, что такое хорошо и что такое плохо). Когда мы подвергаем сомнению это объяснение, в качестве контрпримеров мы склонны приводить различные формы чувства вины. Это понятно, поскольку самые ранние формы чувства вины — это чувство авторитарной вины, и вряд ли можно стать взрослым, не имея того, что можно назвать остаточным чувством вины. Например, человека, воспитанного в строгой религиозной секте, возможно, учили, что посещение театра неправильно. Хотя он больше и не верит в это, он все еще чувствует вину при посещении театра.
Но это не настоящее чувство вины, поскольку он не собирается извиняться перед кем-либо и не решает никогда больше не ходить на пьесы и т. п. Действительно, он, скорее, скажет, что ощущает некоторую неловкость и похожие чувства, напоминающие те, которые он испытывал во время ощущения вины. В предположении обоснованности договорной доктрины объяснения некоторых моральных чувств опираются на принципы правильности, которые были бы выбраны в исходном положении, в то время как другие моральные чувства связаны с понятием блага. Например, человек чувствует вину, потому что он знает, что он взял большую, чем ему положено (некоторой справедливой схемой), долю, или потому, что он нечестно поступил с другими. Или человек чувствует стыд, потому что он струсил и не высказал своего мнения. Ему не удалось жить согласно концепции моральной ценности, которую он поставил себе целью достичь (§ 68). Моральные чувства отличаются друг от друга принципами и их нарушениями (faults), к которым обращаются при объяснении чувств. По большей части, характерные ощущения и поведенческие проявления одинаковы, представляя собой психологические нарушения и обладая общими чертами таковых.
п. Действительно, он, скорее, скажет, что ощущает некоторую неловкость и похожие чувства, напоминающие те, которые он испытывал во время ощущения вины. В предположении обоснованности договорной доктрины объяснения некоторых моральных чувств опираются на принципы правильности, которые были бы выбраны в исходном положении, в то время как другие моральные чувства связаны с понятием блага. Например, человек чувствует вину, потому что он знает, что он взял большую, чем ему положено (некоторой справедливой схемой), долю, или потому, что он нечестно поступил с другими. Или человек чувствует стыд, потому что он струсил и не высказал своего мнения. Ему не удалось жить согласно концепции моральной ценности, которую он поставил себе целью достичь (§ 68). Моральные чувства отличаются друг от друга принципами и их нарушениями (faults), к которым обращаются при объяснении чувств. По большей части, характерные ощущения и поведенческие проявления одинаковы, представляя собой психологические нарушения и обладая общими чертами таковых.
Стоит заметить, что одно и то же действие может возбуждать несколько моральных чувств сразу, если, конечно, как это часто и случается, каждому может быть дано подходящее объяснение (§ 67). Например, человек, который жульничает, может чувствовать и вину, и стыд; вину из-за того, что он злоупотребил доверием и нечестно извлек преимущества для себя, и вина является реакцией на ущерб другим; стыд, поскольку из-за использования таких средств он предстал в своих собственных глазах (и глазах других) как слабый и ненадежный человек, который прибегает к нечестным и недостойным средствам для достижения своих целей.
Эти объяснения апеллируют к различным принципам и ценностям, позволяя различить соответствующие чувства; оба объяснения часто оказываются верными. Мы можем добавить, что для обладания человеком моральным чувством не необходимо, чтобы каждое утверждение в его объяснении было истинным; достаточно того, что он принимает это объяснение. Человек, таким образом, может заблуждаться, думая, что он взял больше, чем ему полагается. Он может быть невиновен. Тем не менее, он чувствует вину, поскольку его объяснение — нужного рода, и, хотя оно ошибочно, мнения человека искренни.
Он может быть невиновен. Тем не менее, он чувствует вину, поскольку его объяснение — нужного рода, и, хотя оно ошибочно, мнения человека искренни.
Далее, есть группа вопросов об отношении моральных установок к поступкам: (д) Каковы характерные намерения, старания и склонности человека, переживающего данное чувство? Какого рода вещи он намерен делать, или обнаруживает, что не может сделать? Человек в гневе в типичном случае старается нанести ответный удар или блокировать цели того, на кого он сердит. Мучаясь, скажем, виной, человек желает действовать должным образом в будущем и соответствующим образом стремится модифицировать свое поведение. Он склонен признать то, что сделал, и просить о восстановлении исходного положения, готов принять наказание и требования возмещения ущерба; он обнаруживает, что менее склонен осуждать других, когда они поступают неправильно. Конкретная ситуация будет определять, какая из этих диспозиций будет реализована; и мы можем также допустить, что семейство выводимых диспозиций варьируется в соответствии с моралью индивида. Ясно, например, что типичные выражения вины и подходящие объяснения будут различаться по мере того, как идеалы и роли морали ассоциации становятся более сложными и требовательными; а эти чувства, в свою очередь, будут отличаться от эмоций, связанных с моралью принципов. В справедливости как честности эти вариации объясняются, в первую очередь, содержанием соответствующего морального взгляда. Структура предписаний, идеалов и принципов показывает, какого типа объяснения требуются.
Ясно, например, что типичные выражения вины и подходящие объяснения будут различаться по мере того, как идеалы и роли морали ассоциации становятся более сложными и требовательными; а эти чувства, в свою очередь, будут отличаться от эмоций, связанных с моралью принципов. В справедливости как честности эти вариации объясняются, в первую очередь, содержанием соответствующего морального взгляда. Структура предписаний, идеалов и принципов показывает, какого типа объяснения требуются.
Мы можем далее спросить: (е) Какие эмоции и реакции ожидает человек, испытывающий какое-то конкретное чувство, со стороны других людей? Как он предвосхищает их реакцию на него, скажем, в своих различных искаженных интерпретациях поведения других в отношении его? Так, человек, ощущающий вину, признающий, что его поступки являются преступлением против законных притязаний других людей, ожидает, что эти другие будут осуждать его поведение и пытаться наказать его различными способами. Он также предполагает, что третья сторона будет относиться к нему с негодованием. Человек с чувством вины, таким образом, относится с пониманием к осуждению и негодованию со стороны других и к тем неясностям, которые из-за этого возникают. Напротив, ощущающий стыд человек ожидает насмешек и презрения. Он лишен стандартов совершенства, уступил слабости и показал себя недостойным ассоциации, в которой состоят разделяющие его идеалы люди. Он опасается, что будет отвергнут, сделается объектом презрения и насмешек.
Человек с чувством вины, таким образом, относится с пониманием к осуждению и негодованию со стороны других и к тем неясностям, которые из-за этого возникают. Напротив, ощущающий стыд человек ожидает насмешек и презрения. Он лишен стандартов совершенства, уступил слабости и показал себя недостойным ассоциации, в которой состоят разделяющие его идеалы люди. Он опасается, что будет отвергнут, сделается объектом презрения и насмешек.
Именно потому, что в объяснениях чувства вины и стыда используются разные принципы, мы предвосхищаем различные установки у разных людей. Вообще говоря, вина, возмущение и негодование взывают к концепции правильности, в то время как стыд, презрение и высмеивание апеллируют к концепции блага. Эти замечания очевидным образом распространяются на чувства обязанности и обязательства (если такие имеются) и на уместную гордость и чувство собственного достоинства.
Наконец, мы можем спросить: (ж) Каковы характерные побуждения к действиям, приводящим к возникновению морального чувства, и как это чувство обычно объясняется? Здесь вновь встречаются уже отмеченные различия между моральными эмоциями.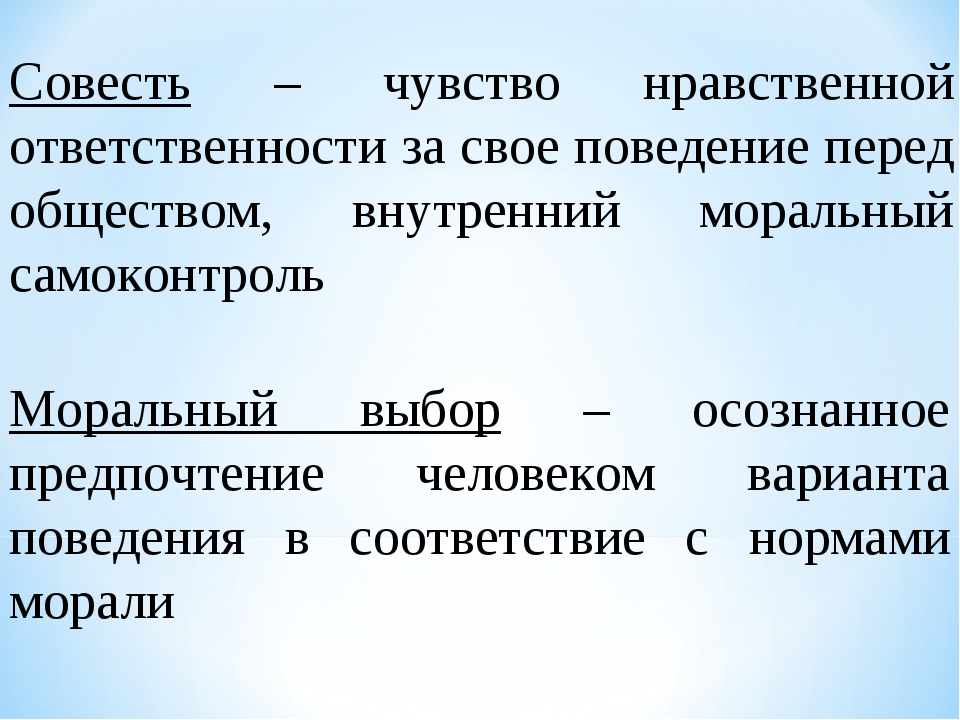 Чувства вины и стыда имеют разный контекст и преодолеваются разными способами, и эти вариации отражают определяющие принципы, с которыми они связаны, и их особый психологический базис. Так, например, вина облегчается возмещением и прощением, которые могут привести к примирению; стыд же проходит благодаря исправлению пороков, обновлением веры в совершенство личности. Ясно также, что возмущение и негодование имеют свои характерные способы разрешения, поскольку первое причиняется тем, что мы считаем ущербом, нанесенным нам, а второе относится к ущербу, нанесенному другому.
Чувства вины и стыда имеют разный контекст и преодолеваются разными способами, и эти вариации отражают определяющие принципы, с которыми они связаны, и их особый психологический базис. Так, например, вина облегчается возмещением и прощением, которые могут привести к примирению; стыд же проходит благодаря исправлению пороков, обновлением веры в совершенство личности. Ясно также, что возмущение и негодование имеют свои характерные способы разрешения, поскольку первое причиняется тем, что мы считаем ущербом, нанесенным нам, а второе относится к ущербу, нанесенному другому.
И все же различия между чувствами вины и стыда настолько велики, что полезно обратить внимание, как они соответствуют различиям, проведенным между разными аспектами морали. Как мы видели, нехватка какой-либо добродетели может привести к стыду; достаточно того, чтобы человек высоко ценил те поступки, которые он причисляет к своим совершенствам (§ 67). Аналогично, неправильные действия всегда ведут к осознанию вины, если другим каким-то образом причинен ущерб или нарушены их права. Так, вина и стыд отражают озабоченность относительно других и себя, которая всегда должна наличествовать в моральном поведении. Тем не менее, некоторые добродетели, а, значит, и придающие им значимость моральные качества, более типичны с точки зрения одного чувства, чем другого, и, следовательно, более тесно связаны с ним. Так, в частности, моральные качества действий, выходящих за пределы долга, обеспечивают появление стыда; действительно, они представляют более высокие формы морального совершенства, человеческую любовь и самообладание, и выбирая их, человек рискует не соответствовать их сущностной природе. Было бы ошибкой, однако, выделять одно чувство по сравнению с другим в полной моральной концепции. Теория правильности и справедливости основана на представлении о взаимности, которое примиряет точки зрения «Я» и других как равных моральных личностей. Эта взаимность приводит к тому, что обе точки зрения характеризуют как моральное мышление, так и чувство, в приблизительно равной мере.
Так, вина и стыд отражают озабоченность относительно других и себя, которая всегда должна наличествовать в моральном поведении. Тем не менее, некоторые добродетели, а, значит, и придающие им значимость моральные качества, более типичны с точки зрения одного чувства, чем другого, и, следовательно, более тесно связаны с ним. Так, в частности, моральные качества действий, выходящих за пределы долга, обеспечивают появление стыда; действительно, они представляют более высокие формы морального совершенства, человеческую любовь и самообладание, и выбирая их, человек рискует не соответствовать их сущностной природе. Было бы ошибкой, однако, выделять одно чувство по сравнению с другим в полной моральной концепции. Теория правильности и справедливости основана на представлении о взаимности, которое примиряет точки зрения «Я» и других как равных моральных личностей. Эта взаимность приводит к тому, что обе точки зрения характеризуют как моральное мышление, так и чувство, в приблизительно равной мере. Ни озабоченность относительно других, ни наша собственная не имеют приоритета, поскольку все равны; и баланс личностей задан принципами справедливости. А там, где этот баланс сдвигается к одной из сторон, как в случае поступков, выходящих за пределы долга, это исходит от «Я», добровольно принимающего на себя большую часть. Таким образом, хотя мы можем представлять точки зрения
Ни озабоченность относительно других, ни наша собственная не имеют приоритета, поскольку все равны; и баланс личностей задан принципами справедливости. А там, где этот баланс сдвигается к одной из сторон, как в случае поступков, выходящих за пределы долга, это исходит от «Я», добровольно принимающего на себя большую часть. Таким образом, хотя мы можем представлять точки зрения
«Я» и других в качестве характеристик некоторых моральных качеств в историческом плане или плане определенной перспективы в рамках полной концепции, завершенная моральная доктрина включает и то, и другое. Сами по себе мораль стыда или вины являются лишь частью морального взгляда.
В этих замечаниях я подчеркивал два главных момента. Во-первых, моральные установки нельзя отождествлять с характерными ощущениями и поведенческими проявлениями, даже если таковые существуют. Моральные чувства требуют определенных типов объяснений. Во-вторых, моральное отношение включает принятие особых моральных добродетелей; а принципы, которые определяют эти добродетели, используются для объяснения соответствующих чувств. Суждения, которые проливают свет на различные эмоции, отличаются друг от друга стандартами, используемыми в объяснении. Вина и стыд, раскаяние и сожаление, негодование и возмущение апеллируют либо к принципам, принадлежащим к разным частям морали, либо обращаются к ним с противоположной точки зрения. Этическая теория должна объяснить и найти место этим различениям, хотя, по-видимому, каждая теория попытается сделать это по-своему.
Суждения, которые проливают свет на различные эмоции, отличаются друг от друга стандартами, используемыми в объяснении. Вина и стыд, раскаяние и сожаление, негодование и возмущение апеллируют либо к принципам, принадлежащим к разным частям морали, либо обращаются к ним с противоположной точки зрения. Этическая теория должна объяснить и найти место этим различениям, хотя, по-видимому, каждая теория попытается сделать это по-своему.
60. Виды чувств. Шпаргалка по общей психологии
Читайте также
Боязнь чувств
Боязнь чувств Подобно Таре, девочке, про которую мы рассказывали в начале главы, многие дети с расстройствами аутистического спектра и другими отклонениями в развитии склонны опасаться таких эмоций, как огорчение, потому что эти эмоции их переполняют, и они боятся
Смятенье чувств [6]
Смятенье чувств
[6] У нас много желаний, и очень часто одно исключает другое. Уинстон Черчилль
АМБИВАЛЕНТНОСТЬ (от лат. ambo – оба и valentis — имеющий силу) – один из многих психоаналитических терминов, получивших широкое распространение в психологической науке, причем в
Уинстон Черчилль
АМБИВАЛЕНТНОСТЬ (от лат. ambo – оба и valentis — имеющий силу) – один из многих психоаналитических терминов, получивших широкое распространение в психологической науке, причем в
Оправдание чувств
Оправдание чувств Как правило, нам сложно простить людей, которые обидели, разозлили или разочаровали нас, если мы не уверены, что они действительно понимают наши чувства. Но, если их извинения демонстрируют честное осознание той душевной боли, которую они нам причинили,
59. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ЧУВСТВ. КЛАССИФИКАЦИЯ ЧУВСТВ
59. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ЧУВСТВ. КЛАССИФИКАЦИЯ ЧУВСТВ В этом вопросе мы рассмотрим понятие «чувство», его структуру и классификацию чувств.Под чувством понимается особая форма психического отражения, свойственная только человеку, при которой отражаемым является
Воспитание чувств
Воспитание чувств Один хакер – другому:
– Мне тут одна девчонка роман Достоевского на «мыло» прислала, вчера читать начал. – Ну и как?
– Интересно, только мрачный он какой-то. Прикинь: пять с лишним мегов текста и ни одного смайлика!
Вначале практики мы много работаем с
– Ну и как?
– Интересно, только мрачный он какой-то. Прикинь: пять с лишним мегов текста и ни одного смайлика!
Вначале практики мы много работаем с
Два типа чувств
Два типа чувств Возьмите все книги, посвященные проблеме чувств и эмоций; все психотерапевтические группы, пытающиеся помочь нам установить контакт с ребенком, скрывающимся внутри нас; все лекции о глубинах подсознания, открытых Фрейдом; все психологические теории;
Техника № 6 . Пробуждение чувств Сосредоточьте внимание на органах чувств и обретите покой
Техника № 6. Пробуждение чувств Сосредоточьте внимание на органах чувств и обретите покой Чем полнее вы погружаетесь в настоящий момент, тем меньше пребываете в своем разуме. Более того, активное осознание происходящего помогает полнее ощутить собственное сознание –
Феерия чувств
Феерия чувств
Вы постоянно ощущаете эмоциональные потоки, которые проходят через вас и наполняют вас самыми разными чувствами: от глубоких и пронизывающих до тончайших и еле уловимых. Ощущения меняются как картинки в калейдоскопе.Если нарушен это процесс, то вам
Ощущения меняются как картинки в калейдоскопе.Если нарушен это процесс, то вам
ПЕРЕСКАЗ ЧУВСТВ
ПЕРЕСКАЗ ЧУВСТВ Чувства — это важный показатель того, что людям наиболее ценно, и возникающих у них трудностей. Если пастор не уделяет внимания чувствам собеседника, он не будет способен ни понять, ни, тем более, разрешить проблемы прихожанина. Гейлин (1979, р. 3) так
Цель чувств
Цель чувств Лидер стремится вызвать в слушателях определенные чувства не просто так, а ради какой-либо цели. Если же он пытается просто развлечь слушателей или доставить им приятные ощущения, возможно, его место в индустрии развлечений. Лидер должен вести. А если он
Трудный мир чувств
Трудный мир чувств
Выражение своих чувств – не менее важная сторона общения, чем умение слушать. Делясь своими чувствами, мы даем возможность собеседнику узнать и понять нас. Другое дело, настроен ли он на такое понимание. Но многое зависит и от нас, а именно, в какой форме
Делясь своими чувствами, мы даем возможность собеседнику узнать и понять нас. Другое дело, настроен ли он на такое понимание. Но многое зависит и от нас, а именно, в какой форме
Моральные чувства – это (приведите примеры).
Как вести себя в конфликте?( когда встрял третий человек не зная перво- причины конфликта)
Ситуация 1. За психологической помощью к специалисту обратилась тридцатидвухлетняя женщина. У нее дочь от первого брака девяти лет. В течение двух пос
… ледних лет женщина состоит в гражданском браке с мужчиной, который тоже разведен и имеет трехлетнего сына, оставшегося с матерью. По мнению клиентки, проблема заключается в том, что дочери очень хочется называть ее гражданского мужа отцом и, естественно, чтобы он считал ее своей дочерью. Он же этого не хочет, ссылаясь на то, что у него есть родной сын, для которого он действительно является отцом. Правда, он не возражает, если девочка будет при обращении к нему называть его папой, но в ответ дочкой он ее называть не станет. Женщину не устраивает такая снисходительность со стороны гражданского мужа. Тем более что ее дочь не видится с родным отцом с тех пор, как был расторгнут брак (тогда девочке было полтора года, и родного отца она практически не помнит).
Гражданский муж женщины настаивает на юридическом оформлении брака и хочет иметь совместного ребенка. Однако она сама пока не решается на такой шаг, хотя с момента расторжения первого брака прошло более семи лет. Страх быть покинутой, теперь уже с двумя детьми, которых «ей одной не поднять», не позволяет женщине принять предложение гражданского мужа. Она предпочитает оставить все как есть. Единственное, что ее больше всего беспокоит в данный момент, – это дочь. С одной стороны, она привязана к мужчине, с которым живет, а с другой – боится отчуждения дочери, которой так хочется иметь «настоящего отца, а не дядю Володю». Женщина прекрасно осознает, что создавшаяся семейная ситуация ни к чему хорошему не приведет, но не знает, как себя вести, чтобы ее дочь не страдала.
Правда, он не возражает, если девочка будет при обращении к нему называть его папой, но в ответ дочкой он ее называть не станет. Женщину не устраивает такая снисходительность со стороны гражданского мужа. Тем более что ее дочь не видится с родным отцом с тех пор, как был расторгнут брак (тогда девочке было полтора года, и родного отца она практически не помнит).
Гражданский муж женщины настаивает на юридическом оформлении брака и хочет иметь совместного ребенка. Однако она сама пока не решается на такой шаг, хотя с момента расторжения первого брака прошло более семи лет. Страх быть покинутой, теперь уже с двумя детьми, которых «ей одной не поднять», не позволяет женщине принять предложение гражданского мужа. Она предпочитает оставить все как есть. Единственное, что ее больше всего беспокоит в данный момент, – это дочь. С одной стороны, она привязана к мужчине, с которым живет, а с другой – боится отчуждения дочери, которой так хочется иметь «настоящего отца, а не дядю Володю». Женщина прекрасно осознает, что создавшаяся семейная ситуация ни к чему хорошему не приведет, но не знает, как себя вести, чтобы ее дочь не страдала. 1. Определите суть психологического затруднения в семье.
2. Попытайтесь спрогнозировать возможные варианты разрешения семейной проблемы и обосновать свои выводы.
3. Что в данной семье следовало бы изменить во взаимоотношениях супругов, а также приемного отца и неродной дочери, чтобы улучшить психологический климат и найти конструктивный путь разрешения проблемы?
Ситуация 2. «Мне сорок пять лет, я женат уже во второй раз, у меня есть шестилетний сын Артем, любимая работа, крыша над головой – казалось, живи да радуйся. Но вместо этого у меня в жизни одни неприятности. И все из-за него, моего пасынка Романа.
Этот двадцатилетний оболтус, несмотря на свой молодой возраст, сумел испортить жизнь всем вокруг. Ромка настоящий бандит, но моя жена Елена считает его ангелом и готова ради него принести в жертву нашу семью. „Мальчик просто запутался, ему помочь нужно, а ты своей ненавистью только все портишь! Если ты не можешь любить моего сына, значит, ты и меня не любишь, а тогда нам лучше всего расстаться», – заявила она мне недавно.
1. Определите суть психологического затруднения в семье.
2. Попытайтесь спрогнозировать возможные варианты разрешения семейной проблемы и обосновать свои выводы.
3. Что в данной семье следовало бы изменить во взаимоотношениях супругов, а также приемного отца и неродной дочери, чтобы улучшить психологический климат и найти конструктивный путь разрешения проблемы?
Ситуация 2. «Мне сорок пять лет, я женат уже во второй раз, у меня есть шестилетний сын Артем, любимая работа, крыша над головой – казалось, живи да радуйся. Но вместо этого у меня в жизни одни неприятности. И все из-за него, моего пасынка Романа.
Этот двадцатилетний оболтус, несмотря на свой молодой возраст, сумел испортить жизнь всем вокруг. Ромка настоящий бандит, но моя жена Елена считает его ангелом и готова ради него принести в жертву нашу семью. „Мальчик просто запутался, ему помочь нужно, а ты своей ненавистью только все портишь! Если ты не можешь любить моего сына, значит, ты и меня не любишь, а тогда нам лучше всего расстаться», – заявила она мне недавно. А как я могу любить этого подонка? Поверьте, дело не в том, что он мне не родной. Был бы он нормальным, я бы с радостью заботился о сыне любимой женщины. Но это не человек, а исчадие ада какое-то. К чему бы мой пасынок ни прикоснулся – все сразу же изгадит, а меня он и вовсе с первого дня ненавидит, только и ждет, чтобы мы с его матерью расстались.
И похоже, дождется… Семья рушится на глазах!»
1. В чем суть конфликта, возникшего в этой семье? Какова причина напряженных отношений, сложившихся между пасынком и отчимом?
2. Как, на ваш взгляд, должен вести себя мужчина, чтобы сохранить семью?
3. Какую позицию в этом конфликте должна занимать жена? Почему ее оценка сына расходится с оценкой мужа?
4. Попытайтесь сформулировать рекомендации, адресованные каждому члену семьи, для установления благоприятного психологического климата в ней.
А как я могу любить этого подонка? Поверьте, дело не в том, что он мне не родной. Был бы он нормальным, я бы с радостью заботился о сыне любимой женщины. Но это не человек, а исчадие ада какое-то. К чему бы мой пасынок ни прикоснулся – все сразу же изгадит, а меня он и вовсе с первого дня ненавидит, только и ждет, чтобы мы с его матерью расстались.
И похоже, дождется… Семья рушится на глазах!»
1. В чем суть конфликта, возникшего в этой семье? Какова причина напряженных отношений, сложившихся между пасынком и отчимом?
2. Как, на ваш взгляд, должен вести себя мужчина, чтобы сохранить семью?
3. Какую позицию в этом конфликте должна занимать жена? Почему ее оценка сына расходится с оценкой мужа?
4. Попытайтесь сформулировать рекомендации, адресованные каждому члену семьи, для установления благоприятного психологического климата в ней.
Нужно выставить подозреваемого и 2 аргумента
Помогите пожалуйста
A murder investigation
It was a sunny spring afternoon when Detective Walsh rang me
… to say there had been a death in a mansion block in Holland Park.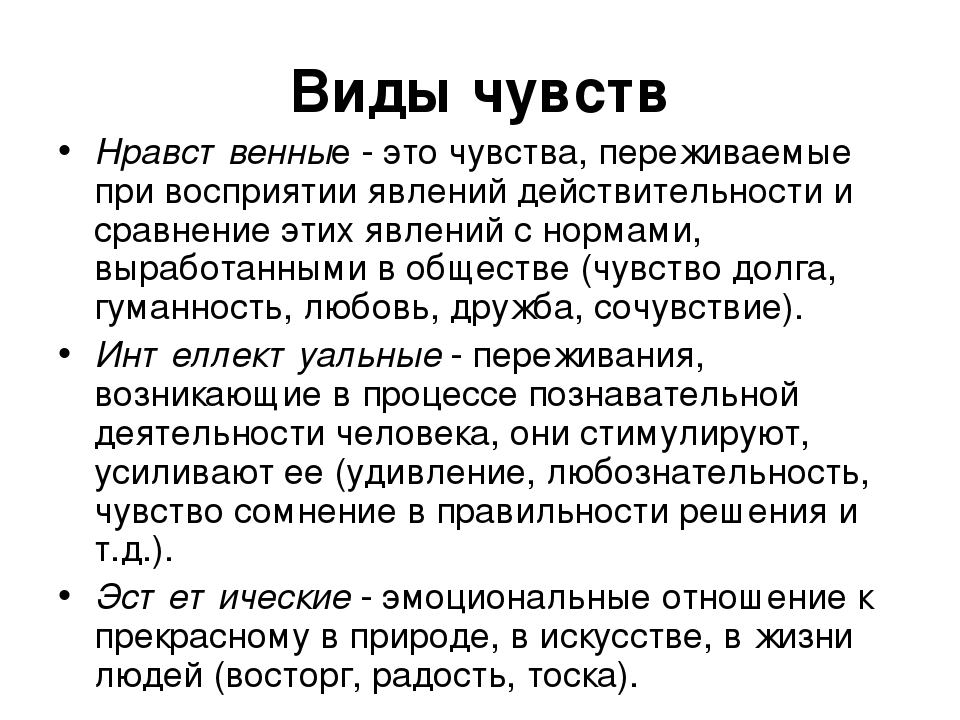 Accidental, according to the neighbours. A man had fall-en down some steps.
We arrived there. The deceased was Kevin Hockley, a 45-year-old businessman who lived alone. His body was near the dustbins. Nearby, there was a black plastic bag and some rubbish which had fallen out of it: a banana skin, some tea bags, a bottle of shampoo, a tin of cat food and a nappy. It was strange. The deceased was bald. Why a bottle of shampoo? He also had no pets or children. This rubbish couldn’t have been his. We went to talk to the neighbours.
We began our enquiries in the basement. The owners, Miranda and Steven Howard had a baby. They told us that Hockley often complained about its crying. They made us tea. They had seen the Hockley’s body only when they let the cat in.
The owner of the flat on the first floor was a divorcee Jane Morrison. She’s the only one in the house with a cat, and she also looked after the baby for the couple downstairs. She couldn’t stand the deceased, but she didn’t say why.
Accidental, according to the neighbours. A man had fall-en down some steps.
We arrived there. The deceased was Kevin Hockley, a 45-year-old businessman who lived alone. His body was near the dustbins. Nearby, there was a black plastic bag and some rubbish which had fallen out of it: a banana skin, some tea bags, a bottle of shampoo, a tin of cat food and a nappy. It was strange. The deceased was bald. Why a bottle of shampoo? He also had no pets or children. This rubbish couldn’t have been his. We went to talk to the neighbours.
We began our enquiries in the basement. The owners, Miranda and Steven Howard had a baby. They told us that Hockley often complained about its crying. They made us tea. They had seen the Hockley’s body only when they let the cat in.
The owner of the flat on the first floor was a divorcee Jane Morrison. She’s the only one in the house with a cat, and she also looked after the baby for the couple downstairs. She couldn’t stand the deceased, but she didn’t say why. She offered us tea.
On the ground floor, we had look at Hockley’s apartment. The door was open and the rub-bish been was empty. Otherwise all was in order. We decided to talk to the remaining owners.
A woman called Emilia Forrester lived alone on the second floor. She admitted us that she didn’t like Hockley. From morning till night he played music. Finally, we questioned the porter Billy Brown, but he had been next door all day mending a roof.
The death certificate showed that Hockley’s death was no accident. The murderer must have left the rubbish to make it look accidental, but the rubbish provided clues.
Расследование убийства
Был солнечный весенний день, когда детектив Уолш позвонил мне и сообщил, что в одном из особняков в Холланд-парке произошла смерть. Случайно, по словам соседей. Мужчина упал с нескольких ступенек.
Мы приехали туда. Погибший был Кевин Хокли, 45-летний бизнесмен, который жил один. Его тело было рядом с мусорными баками. Рядом был черный пластиковый пакет и выпавший из него какой-то мусор: банановая кожура, несколько пакетиков чая, бутылка шампуня, банка кошачьего корма и подгузник.
She offered us tea.
On the ground floor, we had look at Hockley’s apartment. The door was open and the rub-bish been was empty. Otherwise all was in order. We decided to talk to the remaining owners.
A woman called Emilia Forrester lived alone on the second floor. She admitted us that she didn’t like Hockley. From morning till night he played music. Finally, we questioned the porter Billy Brown, but he had been next door all day mending a roof.
The death certificate showed that Hockley’s death was no accident. The murderer must have left the rubbish to make it look accidental, but the rubbish provided clues.
Расследование убийства
Был солнечный весенний день, когда детектив Уолш позвонил мне и сообщил, что в одном из особняков в Холланд-парке произошла смерть. Случайно, по словам соседей. Мужчина упал с нескольких ступенек.
Мы приехали туда. Погибший был Кевин Хокли, 45-летний бизнесмен, который жил один. Его тело было рядом с мусорными баками. Рядом был черный пластиковый пакет и выпавший из него какой-то мусор: банановая кожура, несколько пакетиков чая, бутылка шампуня, банка кошачьего корма и подгузник. Это было странно. Покойный был лысым. Почему бутылка шампуня? У него также не было ни домашних животных, ни детей. Эта чушь не могла принадлежать ему. Мы пошли поговорить с соседями.
Мы начали наши расспросы в подвале. У владельцев, Миранды и Стивена Ховарда, родился ребенок. Они рассказали нам, что Хокли часто жаловался на его плач. Они приготовили нам чай. Они увидели тело Хокли только тогда, когда впустили кошку.
Владелицей квартиры на первом этаже была разведенная Джейн Моррисон. Она единственная в доме с кошкой, и она также присматривала за младенцем для пары внизу. Она терпеть не могла покойного, но не сказала почему. Она предложила нам чай.
На первом этаже мы посмотрели квартиру Хокли. Дверь была открыта, а мусор был пуст. В остальном все было в порядке. Решили поговорить с остальными владельцами.
Женщина по имени Эмилия Форрестер жила одна на втором этаже. Она призналась нам, что ей не нравится Хокли. С утра до вечера он играл музыку. Наконец, мы допросили носильщика Билли Брауна, но он весь день чинил крышу по соседству.
Это было странно. Покойный был лысым. Почему бутылка шампуня? У него также не было ни домашних животных, ни детей. Эта чушь не могла принадлежать ему. Мы пошли поговорить с соседями.
Мы начали наши расспросы в подвале. У владельцев, Миранды и Стивена Ховарда, родился ребенок. Они рассказали нам, что Хокли часто жаловался на его плач. Они приготовили нам чай. Они увидели тело Хокли только тогда, когда впустили кошку.
Владелицей квартиры на первом этаже была разведенная Джейн Моррисон. Она единственная в доме с кошкой, и она также присматривала за младенцем для пары внизу. Она терпеть не могла покойного, но не сказала почему. Она предложила нам чай.
На первом этаже мы посмотрели квартиру Хокли. Дверь была открыта, а мусор был пуст. В остальном все было в порядке. Решили поговорить с остальными владельцами.
Женщина по имени Эмилия Форрестер жила одна на втором этаже. Она призналась нам, что ей не нравится Хокли. С утра до вечера он играл музыку. Наконец, мы допросили носильщика Билли Брауна, но он весь день чинил крышу по соседству. Свидетельство о смерти показало, что смерть Хокли не была случайностью. Убийца, должно быть, оставил мусор, чтобы он выглядел случайным, но мусор давал подсказки.
Свидетельство о смерти показало, что смерть Хокли не была случайностью. Убийца, должно быть, оставил мусор, чтобы он выглядел случайным, но мусор давал подсказки.
Нужно выставить подозреваемого и 2 аргумента
Помогите пожалуйста
A murder investigation
It was a sunny spring afternoon when Detective Walsh rang me
… to say there had been a death in a mansion block in Holland Park. Accidental, according to the neighbours. A man had fall-en down some steps.
We arrived there. The deceased was Kevin Hockley, a 45-year-old businessman who lived alone. His body was near the dustbins. Nearby, there was a black plastic bag and some rubbish which had fallen out of it: a banana skin, some tea bags, a bottle of shampoo, a tin of cat food and a nappy. It was strange. The deceased was bald. Why a bottle of shampoo? He also had no pets or children. This rubbish couldn’t have been his. We went to talk to the neighbours.
We began our enquiries in the basement. The owners, Miranda and Steven Howard had a baby. They told us that Hockley often complained about its crying. They made us tea. They had seen the Hockley’s body only when they let the cat in.
The owner of the flat on the first floor was a divorcee Jane Morrison. She’s the only one in the house with a cat, and she also looked after the baby for the couple downstairs. She couldn’t stand the deceased, but she didn’t say why. She offered us tea.
On the ground floor, we had look at Hockley’s apartment. The door was open and the rub-bish been was empty. Otherwise all was in order. We decided to talk to the remaining owners.
A woman called Emilia Forrester lived alone on the second floor. She admitted us that she didn’t like Hockley. From morning till night he played music. Finally, we questioned the porter Billy Brown, but he had been next door all day mending a roof.
The death certificate showed that Hockley’s death was no accident. The murderer must have left the rubbish to make it look accidental, but the rubbish provided clues.
Расследование убийства
Был солнечный весенний день, когда детектив Уолш позвонил мне и сообщил, что в одном из особняков в Холланд-парке произошла смерть.
They told us that Hockley often complained about its crying. They made us tea. They had seen the Hockley’s body only when they let the cat in.
The owner of the flat on the first floor was a divorcee Jane Morrison. She’s the only one in the house with a cat, and she also looked after the baby for the couple downstairs. She couldn’t stand the deceased, but she didn’t say why. She offered us tea.
On the ground floor, we had look at Hockley’s apartment. The door was open and the rub-bish been was empty. Otherwise all was in order. We decided to talk to the remaining owners.
A woman called Emilia Forrester lived alone on the second floor. She admitted us that she didn’t like Hockley. From morning till night he played music. Finally, we questioned the porter Billy Brown, but he had been next door all day mending a roof.
The death certificate showed that Hockley’s death was no accident. The murderer must have left the rubbish to make it look accidental, but the rubbish provided clues.
Расследование убийства
Был солнечный весенний день, когда детектив Уолш позвонил мне и сообщил, что в одном из особняков в Холланд-парке произошла смерть. Случайно, по словам соседей. Мужчина упал с нескольких ступенек.
Мы приехали туда. Погибший был Кевин Хокли, 45-летний бизнесмен, который жил один. Его тело было рядом с мусорными баками. Рядом был черный пластиковый пакет и выпавший из него какой-то мусор: банановая кожура, несколько пакетиков чая, бутылка шампуня, банка кошачьего корма и подгузник. Это было странно. Покойный был лысым. Почему бутылка шампуня? У него также не было ни домашних животных, ни детей. Эта чушь не могла принадлежать ему. Мы пошли поговорить с соседями.
Мы начали наши расспросы в подвале. У владельцев, Миранды и Стивена Ховарда, родился ребенок. Они рассказали нам, что Хокли часто жаловался на его плач. Они приготовили нам чай. Они увидели тело Хокли только тогда, когда впустили кошку.
Владелицей квартиры на первом этаже была разведенная Джейн Моррисон. Она единственная в доме с кошкой, и она также присматривала за младенцем для пары внизу. Она терпеть не могла покойного, но не сказала почему. Она предложила нам чай.
Случайно, по словам соседей. Мужчина упал с нескольких ступенек.
Мы приехали туда. Погибший был Кевин Хокли, 45-летний бизнесмен, который жил один. Его тело было рядом с мусорными баками. Рядом был черный пластиковый пакет и выпавший из него какой-то мусор: банановая кожура, несколько пакетиков чая, бутылка шампуня, банка кошачьего корма и подгузник. Это было странно. Покойный был лысым. Почему бутылка шампуня? У него также не было ни домашних животных, ни детей. Эта чушь не могла принадлежать ему. Мы пошли поговорить с соседями.
Мы начали наши расспросы в подвале. У владельцев, Миранды и Стивена Ховарда, родился ребенок. Они рассказали нам, что Хокли часто жаловался на его плач. Они приготовили нам чай. Они увидели тело Хокли только тогда, когда впустили кошку.
Владелицей квартиры на первом этаже была разведенная Джейн Моррисон. Она единственная в доме с кошкой, и она также присматривала за младенцем для пары внизу. Она терпеть не могла покойного, но не сказала почему. Она предложила нам чай. На первом этаже мы посмотрели квартиру Хокли. Дверь была открыта, а мусор был пуст. В остальном все было в порядке. Решили поговорить с остальными владельцами.
Женщина по имени Эмилия Форрестер жила одна на втором этаже. Она призналась нам, что ей не нравится Хокли. С утра до вечера он играл музыку. Наконец, мы допросили носильщика Билли Брауна, но он весь день чинил крышу по соседству.
Свидетельство о смерти показало, что смерть Хокли не была случайностью. Убийца, должно быть, оставил мусор, чтобы он выглядел случайным, но мусор давал подсказки.
На первом этаже мы посмотрели квартиру Хокли. Дверь была открыта, а мусор был пуст. В остальном все было в порядке. Решили поговорить с остальными владельцами.
Женщина по имени Эмилия Форрестер жила одна на втором этаже. Она призналась нам, что ей не нравится Хокли. С утра до вечера он играл музыку. Наконец, мы допросили носильщика Билли Брауна, но он весь день чинил крышу по соседству.
Свидетельство о смерти показало, что смерть Хокли не была случайностью. Убийца, должно быть, оставил мусор, чтобы он выглядел случайным, но мусор давал подсказки.
способность человека к длительному и неослабленному напряжении неуклонное движение к намеченной цели проявляется как
Основные техники совладания, работа с иррациональными стрессогенными установками (А. Эллис).Помогите пж найти нигде не могу найти
грамотический разбор предложения (А медведица зорко смотрит по сторонам),(Она готова оградить детёныша от опасности) и (Если медвежатам грозит беда,ме … дведица бросится на любого противника)
1 Тестирование основных понятий «Мотивации трудовой деятельности»
1 Мотив – это:
A) побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением потребносте
… й субъекта.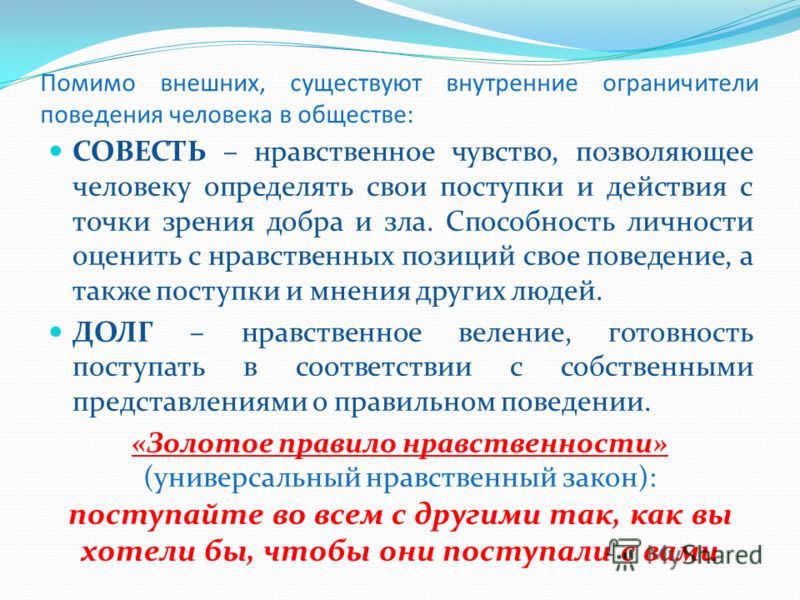 B) состояние объективной нужды организма.
C) осознанная потребность.
D) предметная необходимость.
E) потребность.
2 Найдите определение понятию «инстинкт»:
A) совокупность врожденных компонентов поведения и психики человека и животных.
B) опосредованная нервной системой закономерная реакция организма на раздражитель.
C) процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний.
D) характеризует состояние нужды в чем-либо.
E) контролируемая деятельность.
3 В теории деятельности А.Н.Леонтьева мотив в отличие от потребности:
А) вызывает усиление активности.
В) придает смысл деятельности.
С) является источником активности.
D) характеризует состояние нужды в чем-либо.
E) контролирует деятельность.
4 В теории деятельности А.Н.Леонтьева основной функцией мотива является:
А) функция контроля.
В) защитная функция.
С) смыслообразующая функция.
D) регулирующая функция.
E) контролирующая функция.
5 В теории деятельности А.Н.Леонтьева операции характеризуются тем, что они:
А) неосознаваемы.
B) состояние объективной нужды организма.
C) осознанная потребность.
D) предметная необходимость.
E) потребность.
2 Найдите определение понятию «инстинкт»:
A) совокупность врожденных компонентов поведения и психики человека и животных.
B) опосредованная нервной системой закономерная реакция организма на раздражитель.
C) процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний.
D) характеризует состояние нужды в чем-либо.
E) контролируемая деятельность.
3 В теории деятельности А.Н.Леонтьева мотив в отличие от потребности:
А) вызывает усиление активности.
В) придает смысл деятельности.
С) является источником активности.
D) характеризует состояние нужды в чем-либо.
E) контролирует деятельность.
4 В теории деятельности А.Н.Леонтьева основной функцией мотива является:
А) функция контроля.
В) защитная функция.
С) смыслообразующая функция.
D) регулирующая функция.
E) контролирующая функция.
5 В теории деятельности А.Н.Леонтьева операции характеризуются тем, что они:
А) неосознаваемы. В) отвечают цели.
С) выводят человека в предметный мир.
D) характеризуются осознанной целью.
E) контролируемы.
6 Способ, которым выполняется действие в определенных условиях, называется:
А) навыком.
В) операцией.
С) реакцией.
D) поведением.
E) движением.
7 Внешнее проявление деятельности называется:
А) работой.
В) научением.
С) активацией.
D) поведением.
E) воспитанием.
8 Способ осознанно выполнять определенное действие называется:
А) привычкой.
В) умением.
С) операцией.
D) автоматизмом.
E) интериоризацией.
9 Способ выполнения действия, ставший в результате упражнений автоматизированным, называется:
А) привычкой.
В) операцией.
С) навыком.
D) умением.
E) методом.
10 Осознанная потребность личности, побуждающая ее действовать в соответствии со своими ценностями, идеалами – это:
А) Потребности.
В)Интересы.
С)Фантазии.
D)Убеждения.
E)Идеалы
В) отвечают цели.
С) выводят человека в предметный мир.
D) характеризуются осознанной целью.
E) контролируемы.
6 Способ, которым выполняется действие в определенных условиях, называется:
А) навыком.
В) операцией.
С) реакцией.
D) поведением.
E) движением.
7 Внешнее проявление деятельности называется:
А) работой.
В) научением.
С) активацией.
D) поведением.
E) воспитанием.
8 Способ осознанно выполнять определенное действие называется:
А) привычкой.
В) умением.
С) операцией.
D) автоматизмом.
E) интериоризацией.
9 Способ выполнения действия, ставший в результате упражнений автоматизированным, называется:
А) привычкой.
В) операцией.
С) навыком.
D) умением.
E) методом.
10 Осознанная потребность личности, побуждающая ее действовать в соответствии со своими ценностями, идеалами – это:
А) Потребности.
В)Интересы.
С)Фантазии.
D)Убеждения.
E)Идеалы
Помогите пожалуйста.Мини сочинение на тему влияние характера на поступки человека
«Привилегия жизни — стать тем, кем вы являетесь на самом деле»Эссе срочно пожалуйста
Высшие чувства – моральные, интеллектуальные, эстетические, практические – как результат общественного развития
Моральными или нравственными называются чувства,
которые испытывает человек при восприятии
действительности и сравнении этих явлений
с нормами, категориями морали, выработанными
обществом.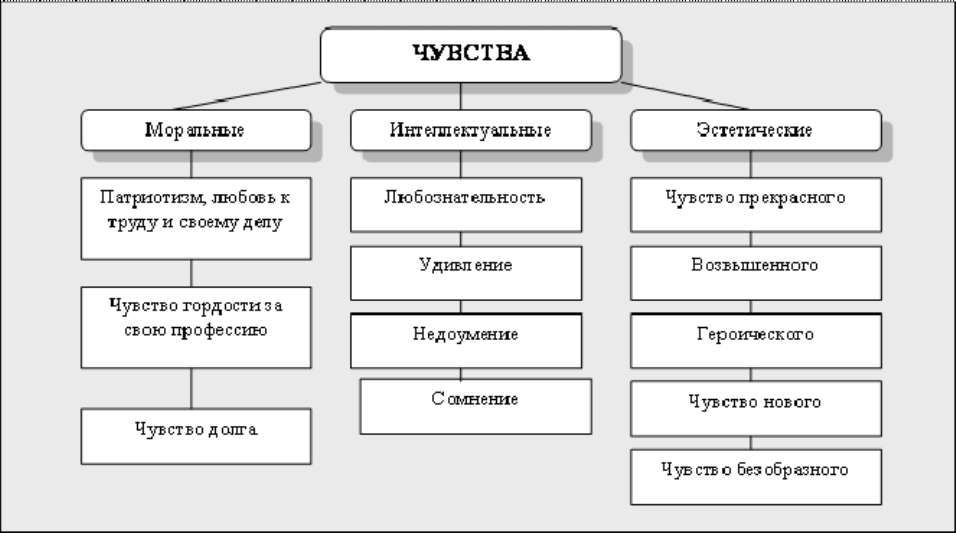 Объектом моральных чувств
являются социальные институты и учреждения,
государство, человеческие коллективы
и отдельные люди, жизненные события, человеческие
отношения, сам человек как объект своих
чувств и т.д. К нравственным чувствам
относят любовь, чувство долга, гуманность,
доброжелательность, дружбу, сочувствие
и др. Среди моральных чувств иногда отдельно
выделяются морально-политические чувства
как проявление эмоциональных отношений
к различным общественным организациям
и учреждениям, коллективам, государству
в целом, к родине и т.д. Одной из важнейших
особенностей нравственных чувств является
их ярко выраженный действенный характер,
т.к. человек всю свою жизнь находится
в активном взаимодействии с внешним миром.
Они выступают как побудительные силы
многих героических дел и возвышенных
поступков.
Объектом моральных чувств
являются социальные институты и учреждения,
государство, человеческие коллективы
и отдельные люди, жизненные события, человеческие
отношения, сам человек как объект своих
чувств и т.д. К нравственным чувствам
относят любовь, чувство долга, гуманность,
доброжелательность, дружбу, сочувствие
и др. Среди моральных чувств иногда отдельно
выделяются морально-политические чувства
как проявление эмоциональных отношений
к различным общественным организациям
и учреждениям, коллективам, государству
в целом, к родине и т.д. Одной из важнейших
особенностей нравственных чувств является
их ярко выраженный действенный характер,
т.к. человек всю свою жизнь находится
в активном взаимодействии с внешним миром.
Они выступают как побудительные силы
многих героических дел и возвышенных
поступков.
Переживания, возникающие
в процессе умственной деятельности,
называют интеллектуальными или познавательными чувствами. Любопытство,
любознательность, удивление, уверенность
в правильности решения задачи и сомнение
при неудаче, чувство нового, побуждающее
к поискам более глубоких знаний – вот
примеры такого чувства. Интеллектуальные
чувства выражают отношение человека
к своим мыслям, процессу и результатам
интеллектуальной деятельности. Эти чувства
связаны с умственной, познавательной
деятельностью человека и постоянно сопровождают
ее. Осуществляемая познавательная деятельность
вызывает целую гамму переживаний. Чувство
удивления возникает тогда, когда человек
встречается с чем-то новым, необычным,
неизвестным. Способность удивляться
– очень важное качество, стимул познавательной
деятельности. Чувство сомнения возникает
при несоответствии гипотез и предположений
с некоторыми фактами и соображениями.
Оно – необходимое условие успешной познавательной
деятельности, так как побуждает к тщательной
проверке полученных данных.
Интеллектуальные
чувства выражают отношение человека
к своим мыслям, процессу и результатам
интеллектуальной деятельности. Эти чувства
связаны с умственной, познавательной
деятельностью человека и постоянно сопровождают
ее. Осуществляемая познавательная деятельность
вызывает целую гамму переживаний. Чувство
удивления возникает тогда, когда человек
встречается с чем-то новым, необычным,
неизвестным. Способность удивляться
– очень важное качество, стимул познавательной
деятельности. Чувство сомнения возникает
при несоответствии гипотез и предположений
с некоторыми фактами и соображениями.
Оно – необходимое условие успешной познавательной
деятельности, так как побуждает к тщательной
проверке полученных данных.
«Познание человека –
это не мертвое, зеркально-механическое
отражение действительности, а страстное
искание истины!» (Г.Х.
Также немаловажное место
в классификации чувств занимают
эстетические чувства. Они тесно
связаны с моральными. Эстетические чувства возникают и развиваются
при восприятии и создании человеком прекрасного.
Сколько бы раз мы ни восхищались красотами
природы или шедеврами искусства, нам
хочется еще и еще раз насладиться ими.
Прекрасное привлекает к себе, и тем в
большей мере, чем глубже человек проникает
в это прекрасное, полнее его понимает.
Эстетические чувства – это эмоциональное
отношение человека к прекрасному или
безобразному в окружающих явлениях, предметах,
в жизни людей, в природе и в искусстве.
Основой для возникновения эстетических
чувств является способность человека
воспринимать явления окружающей действительности,
руководствуясь не только моральными
нормами, но и принципами прекрасного.
Эту способность человек приобрел в процессе
общественного развития, общественной
практики.
Они тесно
связаны с моральными. Эстетические чувства возникают и развиваются
при восприятии и создании человеком прекрасного.
Сколько бы раз мы ни восхищались красотами
природы или шедеврами искусства, нам
хочется еще и еще раз насладиться ими.
Прекрасное привлекает к себе, и тем в
большей мере, чем глубже человек проникает
в это прекрасное, полнее его понимает.
Эстетические чувства – это эмоциональное
отношение человека к прекрасному или
безобразному в окружающих явлениях, предметах,
в жизни людей, в природе и в искусстве.
Основой для возникновения эстетических
чувств является способность человека
воспринимать явления окружающей действительности,
руководствуясь не только моральными
нормами, но и принципами прекрасного.
Эту способность человек приобрел в процессе
общественного развития, общественной
практики.
Среди особых групп высших чувств важное
место занимают чувства практические,
связанные с деятельностью – трудом, учением,
спортом, т. е. разнообразные формы деятельности
человека, делаются предметом его эмоционального
отношения. Чем сложнее деятельность –
тем многообразнее чувства, с нею связанные.
В сфере практических чувств можно выделить
творческие чувства. Когда человек осуществляет
деятельность, которая предполагает сознательное
внесение в неё элементов нового, приводящего
к повышению ценности создаваемого продукта
деятельности, то это порождает эмоциональный
отклик в виде творческих чувств. Труд
— основа существования человека, и среди
высших чувств важное место занимает положительное
эмоциональное отношение к труду: переживание
его как сложного, но необходимого дела,
как источника бодрости при встрече с
препятствиями, как чувства радости от
успешного завершения. Эти явления относятся
к практическим чувствам.
Чем сложнее деятельность –
тем многообразнее чувства, с нею связанные.
В сфере практических чувств можно выделить
творческие чувства. Когда человек осуществляет
деятельность, которая предполагает сознательное
внесение в неё элементов нового, приводящего
к повышению ценности создаваемого продукта
деятельности, то это порождает эмоциональный
отклик в виде творческих чувств. Труд
— основа существования человека, и среди
высших чувств важное место занимает положительное
эмоциональное отношение к труду: переживание
его как сложного, но необходимого дела,
как источника бодрости при встрече с
препятствиями, как чувства радости от
успешного завершения. Эти явления относятся
к практическим чувствам.
Подытоживая вышесказанное,
необходимо отметить, что данная классификация
чувств является условной и создана
для удобства изучения психических
явлений. Психика, как сложная и
целостная система, состоит из множества взаимосвязанных
элементов и процессов, влияющих друг
на друга.
Чувства интеллектуальные, практические, эстетические возникают в единстве с чувствами нравственными и обогащаются в связи с ними.
Превращение чувства в побудительную силу, ведущую к действию, переход переживания в поступок приводят к тому, что чувство приобретает новое качество – оно закрепляется в поведении. Создаёт «нравственные привычки»; человек знает, какие чувства ему присущи.
Чувства играют значительную роль и в самопознании человека, поскольку оно возникает не только на основе осмысления собственных поступков и действий, но и на основе осмысления пережитых чувств. Чем значительнее эмоциональная жизнь человека – тем интенсивнее такое самопознание.
Проблема классификации чувств остается нерешенной. Во всяком случае, пока нет исчерпывающей классификации чувств, что объясняется, во-первых, большим их разнообразием и, во-вторых, изменчивостью в зависимости от исторических условий.
В современном мире разума
чувства сильно обесценены, поскольку есть такая версия,
что они препятствуют ясности мысли и
действия. Но это не так. Наоборот, чувства
не только регулируют энергию, но также
являются носителями определенного опыта
и нашего знания о себе и мире.
Но это не так. Наоборот, чувства
не только регулируют энергию, но также
являются носителями определенного опыта
и нашего знания о себе и мире.
Чувства помогают понять,
что происходит с вами в соприкосновении
с окружающим миром, как вы на него реагируете,
что вам подходит, а что нет, в чем вы нуждаетесь
и что вы на самом деле хотите делать. Например,
когда вы прикасаетесь к раскаленному
предмету, вы чувствуете боль. Боль сообщает
вам, что этот предмет опасен для вашего
здоровья и жизни. Если вы несетесь на
огромной скорости в горах по дороге без
ограждения, вы можете почувствовать страх
– страх тоже отвечает за вашу безопасность.
Если вы чувствуете обиду или злость в
тот момент, когда кто-то говорит вам неприятные
слова, – эти чувства сигнализируют, что
ваша личная территория подвергается
вторжению. Чувства – наш главный поставщик
информации о том, что происходит с нами
в соприкосновении с другими объектами
окружающей среды, будь это предметы или
другие существа.
Таким образом, можно уверенно сказать, что чувства носят исторический характер. Они различны у разных народов и могут по-разному выражаться в разные исторические эпохи у людей, принадлежащих к одним и тем же нациям и культурам. В индивидуальном развитии человека чувства играют важную социализирующую роль. Они выступают как значимый фактор в формировании личности, в особенности ее мотивационной сферы. На базе положительных эмоциональных переживаний типа чувств появляются и закрепляются потребности и интересы человека.
Чувства – продукт культурно-исторического развития
человека. Они связаны с определенными
предметами, видами деятельности и людьми,
окружающими человека. Чувства выполняют
в жизни и деятельности человека, в его
общении с окружающими людьми мотивирующую
роль. В отношении окружающего его мира
человек стремится действовать так, чтобы
подкрепить и усилить свои положительные
чувства. Они у него всегда связаны с работой
сознания, могут произвольно регулироваться.
Заключение
В заключение исследования можно сделать вывод, что для человека имеет ценность лишь пережитое в чувстве. Все чувства взаимосвязаны и проявляются в той или иной степени в зависимости от ситуаций. Они побуждают нас к действиям, оказывают влияние на принятие решений и постановку жизненных целей, определяют наше поведение, да и просто оказываются необходимыми в преодолении трудностей повседневной жизни. Благодаря чувствам мы воспринимаем окружающий мир не как постороннее явление, а принимаем в нем активное участие и испытываем определенные переживания. Одни ситуации вызывают ненависть и гнев, другие любовь и умиротворение. Некоторыми своими поступками мы можем гордиться, а некоторых напротив – стыдиться. Именно переживания делают нас людьми, а нашу жизнь яркой и осмысленной.
Возникновение чувств обусловлено
общественным бытием человека. Иначе
говоря, чувства носят социальный
характер. В основе чувств лежат, прежде
всего, потребности, возникшие в
процессе общественного развития человека
и связанные с отношениями между людьми. Без развития
чувств человечество находилось бы на
примитивном животном уровне.
Без развития
чувств человечество находилось бы на
примитивном животном уровне.
Чувства отличаются от эмоциональных
реакций и эмоциональных
Список использованной литературы
- Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб: Питер, 2001. – 752с.
- Крысько В.Г. Социальная психология. – М.: Питер, 2005. – 221с.
- Нуркова В.В., Березанская Н. Б. Психология: Учебник для вузов. М.: Юрайт, 2004. – 484с.
- Хрестоматия по социальной психологии / Сост. Кутасова Т.В. – М., 2004. – 222с.
- Шишкоедов П.Н. Общая психология. – М.: Эксмо, 2009. – 288с.
Безбожная мораль by Peter Singer
Является ли религиозность необходимым условием наличия моральных принципов? Многие люди считают возмутительным богохульством отрицать божественное происхождение морали: наше чувство морали либо было сотворено неким божественным существом, либо мы научились ему посредством религии. И в том и в другом случае, для того чтобы обуздывать грешные желания, которыми нас наделила природа, нам необходима религия. Перефразируя слова Катерины Хепберн, произнесённые ею в картине «Королева Африки», религия, исполняя роль морального компаса, позволяет нам подняться выше старой порочной матери-природы.
И в том и в другом случае, для того чтобы обуздывать грешные желания, которыми нас наделила природа, нам необходима религия. Перефразируя слова Катерины Хепберн, произнесённые ею в картине «Королева Африки», религия, исполняя роль морального компаса, позволяет нам подняться выше старой порочной матери-природы.
-
The Statelessness Pandemic
PS OnPoint
Paula BronsteinGetty Images
Subscriber Exclusive
org/ListItem»>
No More Pandemic Have-Nots
SIPHIWE SIBEKOPOOLAFP via Getty Images
Однако при попытке доказать божественную природу морали мы сталкиваемся с несколькими проблемами. Одна из них заключается в следующем: нас неизбежно обвинят в тавтологии, если мы станем одновременно утверждать, что бог олицетворяет собой добро и что он, в то же время, наделил нас чувством добра и зла. Получится, что мы просто говорим: Бог отвечает своим собственным стандартам.
Вторая проблема заключается в том, что нет таких моральных принципов, которые разделяются всеми верующими людьми, вне зависимости от конкретной веры, и не разделяются всеми скептиками и атеистами. Более того, атеисты и скептики ведут себя не менее нравственно, чем верующие люди, хотя в своих действиях они могут руководствоваться другими принципами. Неверующие часто обладают очень развитым чувством различения добра и зла. Они помогли отменить рабство и потратили немало усилий для уменьшения людских страданий.
Неверующие часто обладают очень развитым чувством различения добра и зла. Они помогли отменить рабство и потратили немало усилий для уменьшения людских страданий.
Верно и обратное. Религия побуждала и продолжает побуждать людей совершать бесконечные и ужасные злодеяния. Вспомним, например, приказ уничтожить народ мидианитов – мужчин, женщин, мальчиков и не являющихся девственницами девочек, — отданный богом Моисею, или крестовые походы, или инквизицию, или бесконечные конфликты между мусульманами шиитами и мусульманами суннитами, или террористов-смертников, убеждённых в том, что мученичество обеспечит им место в раю.
Третья проблема, с которой мы столкнёмся при попытке доказать божественное происхождение религии, заключается в том, что некоторые моральные принципы носят универсальный характер, несмотря на резкие различия между основными мировыми религиями. Более того, данные принципы можно встретить и в культурах, подобных китайской, которые характеризуются заниженной ролью религии по сравнению с философскими учениями типа конфуцианства.
Возможно, данные универсальные принципы были вложены в нас божественным создателем в момент нашего сотворения. Но существует и другое объяснение данному феномену, которое основывается на данных биологии и геологии: за миллионы лет мы развили в себе моральную способность, которая на интуитивном уровне подсказывает нам, что есть добро, а что — зло.
Subscribe to Project SyndicateSubscribe to Project Syndicate
Enjoy unlimited access to the ideas and opinions of the world’s leading thinkers, including weekly long reads, book reviews, topical collections, and interviews; The Year Ahead annual print magazine; the complete PS archive; and more – for less than $9 a month.
Subscribe Now
Исследования в области когнитологии (науки о мышлении), а также теоретические аргументы, основанные на философии морали, впервые в истории позволили нам разрешить древний спор о происхождении и о природе морали.
Перед Вами три ситуации. Заполните пустые места в каждой из них одним из этих слов: «обязательно», «допустимо», «недопустимо».
1. Сорвавшийся на уклоне товарный вагон вот-вот задавит пятерых людей, идущих по рельсам. Железнодорожный рабочий стоит у стрелки, с помощью которой можно направить вагон в другую сторону и спасти этих пятерых человек, но при этом вагон задавит одного человека. Переключение стрелки ______.
2. Вы проходите мимо неглубоко пруда, в котором тонет маленькая девочка. Никого, кроме Вас, поблизости нет. Вы можете спасти ребёнка, но в этом случае Ваши штаны придут в негодность. Спасение ребёнка _______.
3. Только что в больницу доставили пятерых людей в критическом состоянии, каждому из которых для того, чтобы выжить, требуется пересадка одного органа. Времени на заказ органов недостаточно, но в приёмной находится здоровый человек. Если хирург воспользуется органами этого человека, то ценой его жизни можно будет спасти пятерых тяжелобольных людей. Пересадка органов от здорового человека _______.
Если хирург воспользуется органами этого человека, то ценой его жизни можно будет спасти пятерых тяжелобольных людей. Пересадка органов от здорового человека _______.
Если в первом случае Вы выбрали «допустимо», во втором – «обязательно», а в третьем – «недопустимо», то Ваши ответы совпали с ответами 1 500 людей по всему миру, которые участвовали в тесте на определение наличия чувства морали на нашей интернет-странице (http://moral.wjh.harvard.edu/). Если мораль исходит от бога, то атеисты должны оценивать данные ситуации отлично от верующих, а их ответы должны основываться на других принципах.
Например, раз у атеистов отсутствует тот самый «моральный компас», то они должны быть движимы лишь личными интересами и пройдут мимо утопающего ребёнка. Но никаких статистически заметных различий между атеистами и верующими обнаружено не было. Примерно 90% опрошенных посчитали переключение стрелки допустимым, 97% указали на обязательность спасения ребёнка, и 97% высказались за недопустимость пересадки органов от здорового человека.
Вразумительных ответов на вопрос о том, чем руководствовались участники опроса при вынесении решений, получено не было. Если же и были даны какие-либо объяснения, то они не являлись отражением различий между опрошенными в отношении религии. Следует отметить и то, что верующие не смогли объяснить мотивы своих действий лучше атеистов.
Данные исследования обеспечивают эмпирическое обоснование идее того, что человек наделён не только такими психологическими возможностями разума как язык и математические способности, но и моральным чувством, которое определяет наши интуитивные суждения о том, что есть добро, а что — зло. Данные интуитивные суждения стали результатом развития наших предков как социальных существ в течение миллионов лет, и являются частью нашей общей наследственности.
С помощью интуиции, появившейся в результате эволюции, мы не всегда можем дать однозначный ответ на моральную дилемму. То, что наши предки считали хорошим, мы можем таковым не считать. Но в основе понимания сути постоянно меняющихся моральных устоев и таких вопросов, как, например, права животных, международная помощь, возможность применения абортов, эвтаназии и т.д. лежит не религия, а гуманизм и наши представления о нормальной жизни.
То, что наши предки считали хорошим, мы можем таковым не считать. Но в основе понимания сути постоянно меняющихся моральных устоев и таких вопросов, как, например, права животных, международная помощь, возможность применения абортов, эвтаназии и т.д. лежит не религия, а гуманизм и наши представления о нормальной жизни.
В этом отношении, представляется крайне необходимым осознавать наличие универсальных интуитивно воспринимаемых моральных принципов, которые мы можем переосмысливать и, при желании, действовать в противоположность их требованиям. Это не является богохульством, потому что источником наших моральных принципов является не бог, а сама наша природа.
Моральные эмоции и моральное поведение
Подавляющее большинство исследований моральных эмоций сосредоточено на двух негативно оцененных, застенчивых эмоциях — стыде и вине. Многие люди, включая врачей, исследователей и простых людей, используют термин «стыд» и «вина» — синонимы. Тем не менее, на протяжении многих лет было предпринято несколько попыток провести различие между стыдом и виной.
Тем не менее, на протяжении многих лет было предпринято несколько попыток провести различие между стыдом и виной.
В чем разница между стыдом и виной?
Попытки провести различие между стыдом и виной делятся на три категории: ( a ) различие, основанное на типах вызывающих событий, ( b ) различие, основанное на публичном и частном характере преступления, и ( c ) различие, основанное на степени, в которой человек истолковывает вызывающее эмоции событие как неудачу в себе или поведении.
Исследования показывают, что тип событий на удивление мало связан с различием между стыдом и виной. Анализ личного опыта стыда и вины, предоставленный детьми и взрослыми, выявил несколько, если вообще имелись, «классических» ситуаций, вызывающих стыд или вину (Keltner & Buswell 1996, Tangney 1992, Tangney et al. 1994, Tracy & Robins 2006). Большинство типов событий (например, ложь, обман, воровство, отказ помочь другому, непослушание родителям) цитируются одними людьми в связи с чувством стыда, а другие — в связи с чувством вины. Некоторые исследователи утверждают, что стыд вызывается более широким кругом ситуаций, включая как моральные, так и неморальные неудачи и проступки, тогда как вина более конкретно связана с проступками в моральной сфере (Ferguson et al.1991, Sabini & Silver 1997, Smith et al. 2002). На наш взгляд (Tangney et al., 2006b), как и вина его брата и сестры, стыд квалифицируется как преимущественно моральная эмоция, если выйти за рамки узкого концептуального представления области морали с точки зрения этики автономии (Shweder et al.1997). Из этики морали «большой тройки» — автономии, сообщества и божественности (Shweder et al. 1997) — стыд может быть более тесно связан с нарушениями этики сообщества (например, нарушения общественного порядка) и божественности (например, , действия, которые напоминают нам о нашей животной природе), но нарушения определенной этики не имеют однозначного соответствия конкретным ситуациям или событиям. Как показали Shweder et al. (1997), большинство неудач и нарушений воспринимаются как относящиеся к сочетанию моральной этики.
Некоторые исследователи утверждают, что стыд вызывается более широким кругом ситуаций, включая как моральные, так и неморальные неудачи и проступки, тогда как вина более конкретно связана с проступками в моральной сфере (Ferguson et al.1991, Sabini & Silver 1997, Smith et al. 2002). На наш взгляд (Tangney et al., 2006b), как и вина его брата и сестры, стыд квалифицируется как преимущественно моральная эмоция, если выйти за рамки узкого концептуального представления области морали с точки зрения этики автономии (Shweder et al.1997). Из этики морали «большой тройки» — автономии, сообщества и божественности (Shweder et al. 1997) — стыд может быть более тесно связан с нарушениями этики сообщества (например, нарушения общественного порядка) и божественности (например, , действия, которые напоминают нам о нашей животной природе), но нарушения определенной этики не имеют однозначного соответствия конкретным ситуациям или событиям. Как показали Shweder et al. (1997), большинство неудач и нарушений воспринимаются как относящиеся к сочетанию моральной этики. Короче говоря, с этой более широкой культурной точки зрения стыд и вина — это эмоции, каждая из которых в первую очередь вызвана моральными упущениями.
Короче говоря, с этой более широкой культурной точки зрения стыд и вина — это эмоции, каждая из которых в первую очередь вызвана моральными упущениями.
Другое часто упоминаемое различие между стыдом и виной сосредоточено на публичном и частном характере нарушений (например, Benedict 1946). С этой точки зрения стыд рассматривается как более «публичная» эмоция, возникающая в результате публичного разоблачения и неодобрения некоторых недостатков или нарушений. С другой стороны, вина понимается как более «личное» переживание, возникающее из самопроизвольных угрызений совести.Как оказалось, эмпирические исследования не смогли подтвердить это различие между общественным и частным с точки зрения фактической структуры ситуации, вызывающей эмоции (Tangney et al. 1994, 1996a). Например, систематический анализ социального контекста личных событий, вызывающих стыд и чувство вины, описанных несколькими сотнями детей и взрослых (Tangney et al. 1994), показал, что стыд и вина с одинаковой вероятностью могут испытываться в присутствии других. Одиночные переживания стыда были столь же обычны, как и переживания одиночной вины.Что еще более важно, частота, с которой другие узнавали о поведении респондентов, не менялась в зависимости от стыда и вины, что прямо противоречит различию между общественным и частным. Точно так же, изучая личные эмоциональные рассказы, Трейси и Робинс (2006) обнаружили, что по сравнению с чувством вины стыд несколько чаще вызывался событиями достижений и личными событиями, каждое из которых является более частным, чем события в отношениях и в семье.
Одиночные переживания стыда были столь же обычны, как и переживания одиночной вины.Что еще более важно, частота, с которой другие узнавали о поведении респондентов, не менялась в зависимости от стыда и вины, что прямо противоречит различию между общественным и частным. Точно так же, изучая личные эмоциональные рассказы, Трейси и Робинс (2006) обнаружили, что по сравнению с чувством вины стыд несколько чаще вызывался событиями достижений и личными событиями, каждое из которых является более частным, чем события в отношениях и в семье.
Откуда взялось представление о том, что стыд — это более публичная эмоция? Хотя ситуации, вызывающие стыд и чувство вины, одинаково публичны (с точки зрения вероятности того, что другие присутствуют и знают о неудаче или проступке) и в равной степени могут включать межличностные проблемы, по всей видимости, существуют систематические различия в природе этих межличностных проблем. .Tangney et al. (1994) обнаружили, что при описании ситуаций, вызывающих стыд, респонденты больше беспокоились о том, как другие оценивают себя. Напротив, при описании переживаний вины респондентов больше беспокоило их влияние на других. Это различие между «эгоцентрическими» и «ориентированными на других» проблемами неудивительно, учитывая, что стыд предполагает сосредоточение на себе, тогда как вина относится к определенному поведению. Опозоренный человек, который сосредоточен на отрицательной самооценке, естественно, будет обеспокоен оценками других.Это небольшой прыжок от размышлений о том, какой ты ужасный человек, к размышлениям о том, как тебя могут оценивать другие. С другой стороны, человек, испытывающий чувство вины, уже относительно «децентрализован» — сосредотачивается на негативном поведении, несколько отличном от себя. Сосредоточившись на плохом поведении, а не на плохом себе, человек, переживающий переживание вины, с большей вероятностью осознает (и будет беспокоиться) о влиянии этого поведения на других, а не на их оценки. В нескольких последующих исследованиях (Smith et al.2002) предоставляют достаточно доказательств того, что стыд связан с такими опасениями.
Напротив, при описании переживаний вины респондентов больше беспокоило их влияние на других. Это различие между «эгоцентрическими» и «ориентированными на других» проблемами неудивительно, учитывая, что стыд предполагает сосредоточение на себе, тогда как вина относится к определенному поведению. Опозоренный человек, который сосредоточен на отрицательной самооценке, естественно, будет обеспокоен оценками других.Это небольшой прыжок от размышлений о том, какой ты ужасный человек, к размышлениям о том, как тебя могут оценивать другие. С другой стороны, человек, испытывающий чувство вины, уже относительно «децентрализован» — сосредотачивается на негативном поведении, несколько отличном от себя. Сосредоточившись на плохом поведении, а не на плохом себе, человек, переживающий переживание вины, с большей вероятностью осознает (и будет беспокоиться) о влиянии этого поведения на других, а не на их оценки. В нескольких последующих исследованиях (Smith et al.2002) предоставляют достаточно доказательств того, что стыд связан с такими опасениями. Например, участники, призванные сосредоточиться на публичном разоблачении морального проступка, приписывали равные уровни стыда и вины главным героям рассказов, но когда публичное и личное измерение не выделялось, участники приписывали меньше стыда (вина была одинаково высокой в зависимости от условий). Однако вместе взятые выводы Смита и др. Согласуются с представлением о том, что люди сосредотачиваются на оценках других, потому что они чувствуют стыд, а не наоборот.Когда участников попросили подумать о ситуации, в которой они чувствовали себя плохо из-за того, что их подчиненный аспект « был раскрыт или публично раскрыл другому человеку или другим людям» (стр. 154; курсив добавлен), большинство описали спонтанно. возникшее чувство стыда — только 6,7% определили это чувство как стыд (вдвое больше опрошенных определили это чувство как вину). Точно так же и в моральном состоянии (плохое самочувствие из-за того, что «что-то не так» было разоблачено) модальным эмоциональным термином было смущение — в три раза чаще, чем стыд (который был не чаще, чем вина).
Например, участники, призванные сосредоточиться на публичном разоблачении морального проступка, приписывали равные уровни стыда и вины главным героям рассказов, но когда публичное и личное измерение не выделялось, участники приписывали меньше стыда (вина была одинаково высокой в зависимости от условий). Однако вместе взятые выводы Смита и др. Согласуются с представлением о том, что люди сосредотачиваются на оценках других, потому что они чувствуют стыд, а не наоборот.Когда участников попросили подумать о ситуации, в которой они чувствовали себя плохо из-за того, что их подчиненный аспект « был раскрыт или публично раскрыл другому человеку или другим людям» (стр. 154; курсив добавлен), большинство описали спонтанно. возникшее чувство стыда — только 6,7% определили это чувство как стыд (вдвое больше опрошенных определили это чувство как вину). Точно так же и в моральном состоянии (плохое самочувствие из-за того, что «что-то не так» было разоблачено) модальным эмоциональным термином было смущение — в три раза чаще, чем стыд (который был не чаще, чем вина). Короче говоря, испытывая стыд, люди могут чувствовать себя более уязвимыми — лучше осознавать неодобрение других — но в действительности ситуации, вызывающие как стыд, так и вину, обычно носят социальный характер. Чаще всего наши ошибки и проступки не ускользают от внимания других.
Короче говоря, испытывая стыд, люди могут чувствовать себя более уязвимыми — лучше осознавать неодобрение других — но в действительности ситуации, вызывающие как стыд, так и вину, обычно носят социальный характер. Чаще всего наши ошибки и проступки не ускользают от внимания других.
В настоящее время наиболее доминирующая основа для различения стыда и вины — сосредоточение внимания на себе и на поведении — была впервые предложена Хелен Блок Льюис (1971), а позднее разработана оценочной моделью самосознательных эмоций Трейси и Робинс (2004a). .Согласно Льюису (1971), стыд предполагает негативную оценку глобального «я»; вина предполагает отрицательную оценку конкретного поведения. Хотя это различие на первый взгляд может показаться довольно тонким, эмпирические исследования подтверждают, что этот дифференцированный акцент на себя (« Я сделал эту ужасную вещь») по сравнению с поведением («Я сделал эту ужасную вещь ») устанавливает сцена для очень разных эмоциональных переживаний и очень разных моделей мотивации и последующего поведения.
И стыд, и вина являются отрицательными эмоциями и, как таковые, могут вызывать интрапсихическую боль. Тем не менее стыд считается более болезненной эмоцией, потому что на карту поставлено не просто поведение, а сущность человека. Чувство стыда обычно сопровождается ощущением сжатия или «маленького размера», а также чувством никчемности и беспомощности. Опозоренные люди тоже чувствуют себя незащищенными. Хотя стыд не обязательно подразумевает реальную наблюдающую аудиторию, присутствующую для того, чтобы засвидетельствовать свои недостатки, часто возникают образы того, как дефектное «я» могло бы показаться другим.Льюис (1971) описал раскол в самофункционировании, при котором «я» является одновременно агентом и объектом наблюдения и неодобрения. С другой стороны, вина, как правило, является менее разрушительным и менее болезненным переживанием, потому что объектом осуждения является конкретное поведение, а не все я. Вместо того, чтобы защищать обнаженную суть своей личности, люди, испытывающие муки вины, вынуждены задуматься о своем поведении и его последствиях. Такая концентрация приводит к напряжению, угрызениям совести и сожалениям о «плохом поступке».
Такая концентрация приводит к напряжению, угрызениям совести и сожалениям о «плохом поступке».
Эмпирическое подтверждение разграничения стыда и вины Льюисом (1971) исходит из ряда экспериментальных и корреляционных исследований с использованием ряда методов, включая качественный анализ конкретных случаев, анализ содержания рассказов о стыде и вине, количественные оценки личного стыда участниками. и переживания вины, анализ атрибуции, связанной со стыдом и виной, и анализ контрфактического мышления участников (обзор см. в Tangney & Dearing 2002).Например, совсем недавно Трейси и Робинс (2006) использовали как экспериментальные, так и корреляционные методы, показывающие, что внутренние, стабильные, неконтролируемые приписывания неудач положительно связаны со стыдом, тогда как внутренние, нестабильные, контролируемые приписывания неудач положительно связаны с чувством вины.
Стыд и вина — это не одинаково «моральные» эмоции
Одна из постоянных тем, вытекающих из эмпирических исследований, заключается в том, что стыд и вина не являются в равной степени «моральными» эмоциями. В целом вина кажется более адаптивной эмоцией, приносящей пользу отдельным людям и их отношениям различными способами (Baumeister et al.1994, 1995a, b; Tangney 1991, 1995a, b), но появляется все больше свидетельств того, что стыд — это моральные эмоции, которые легко могут пойти наперекосяк (Tangney 1991, 1995a, b; Tangney et al. 1996b).
В целом вина кажется более адаптивной эмоцией, приносящей пользу отдельным людям и их отношениям различными способами (Baumeister et al.1994, 1995a, b; Tangney 1991, 1995a, b), но появляется все больше свидетельств того, что стыд — это моральные эмоции, которые легко могут пойти наперекосяк (Tangney 1991, 1995a, b; Tangney et al. 1996b).
В этом разделе мы суммируем исследования в пяти областях, которые иллюстрируют адаптивные функции вины в отличие от скрытых издержек стыда. В частности, мы сосредотачиваемся на дифференциальной взаимосвязи стыда и вины с мотивацией (сокрытие или исправление), сопереживания, ориентированного на других, гнева и агрессии, психологических симптомов и сдерживания проступка и другого рискованного, социально нежелательного поведения.
Сокрытие и исправление
Исследования неизменно показывают, что стыд и вина приводят к противоположным мотивам или «тенденциям к действию» (Ketelaar & Au 2003, Lewis 1971, Lindsay-Hartz 1984, Tangney 1993, Tangney et al. 1996a, Wallbott & Scherer 1995 , Wicker et al., 1983). С одной стороны, стыд соответствует попыткам отрицать, скрыть или избежать вызывающей стыд ситуации. Физиологические исследования связывают переживание стыда с повышенным уровнем провоспалительных цитокинов и кортизола (Dickerson et al.2004a), которые могут вызывать постуральные признаки почтения и самопрятности (см. Новые направления в исследованиях стыда и вины: физиологические корреляты стыда). С другой стороны, вина соответствует репаративным действиям, включая признания, извинения и устранение последствий поведения. В целом, эмпирические данные, оценивающие склонность к действиям людей, испытывающих стыд и вину, позволяют предположить, что чувство вины способствует конструктивным, проактивным занятиям, тогда как стыд способствует защите, межличностному разделению и дистанцированию.
1996a, Wallbott & Scherer 1995 , Wicker et al., 1983). С одной стороны, стыд соответствует попыткам отрицать, скрыть или избежать вызывающей стыд ситуации. Физиологические исследования связывают переживание стыда с повышенным уровнем провоспалительных цитокинов и кортизола (Dickerson et al.2004a), которые могут вызывать постуральные признаки почтения и самопрятности (см. Новые направления в исследованиях стыда и вины: физиологические корреляты стыда). С другой стороны, вина соответствует репаративным действиям, включая признания, извинения и устранение последствий поведения. В целом, эмпирические данные, оценивающие склонность к действиям людей, испытывающих стыд и вину, позволяют предположить, что чувство вины способствует конструктивным, проактивным занятиям, тогда как стыд способствует защите, межличностному разделению и дистанцированию.
Сочувствие, ориентированное на других, против самоориентированного дистресса
Во-вторых, стыд и вина по-разному связаны с сочувствием.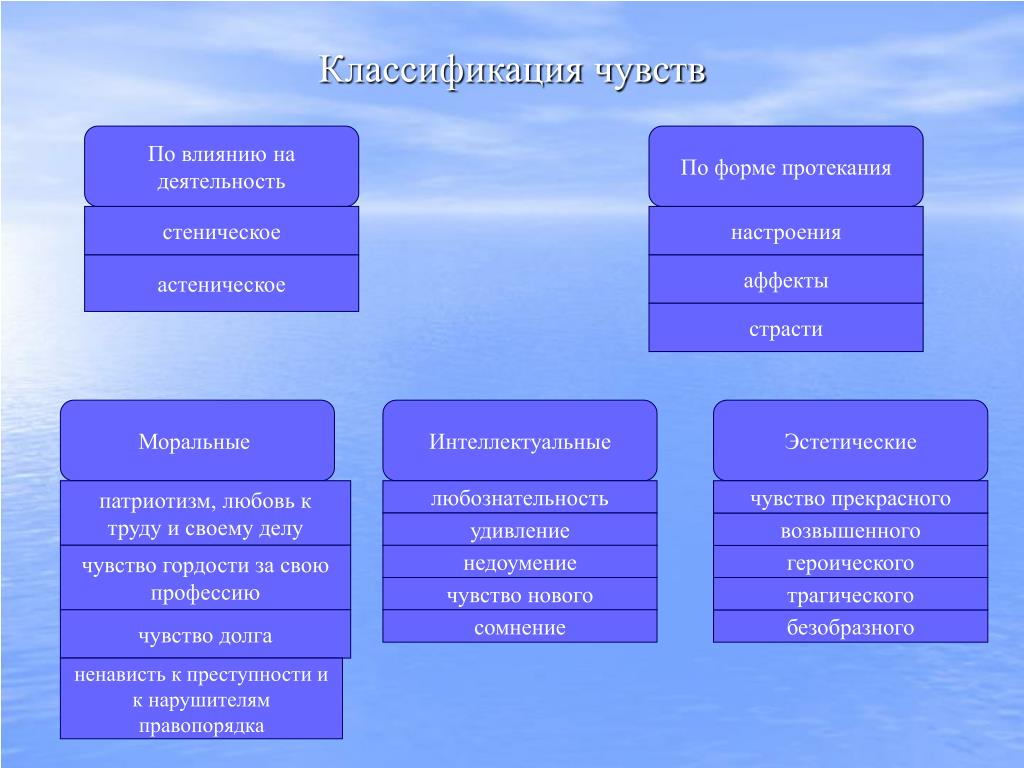 В частности, вина идет рука об руку с сочувствием, ориентированным на других. Напротив, чувство стыда, по-видимому, нарушает способность людей формировать эмпатические связи с другими. Это различное отношение стыда и вины к сочувствию проявляется как на уровне эмоциональной предрасположенности, так и на уровне эмоционального состояния. Исследования эмоциональных предрасположенностей (Joireman 2004; Leith & Baumeister 1998; Tangney 1991, 1995b; Tangney & Dearing 2002) демонстрируют, что предрасположенность к вине постоянно коррелирует с показателями перспективного взгляда и сочувствия.Напротив, предрасположенность к стыду (в зависимости от метода оценки) отрицательно или пренебрежимо коррелирует с эмпатией, ориентированной на других, и положительно связана со склонностью эгоцентрически сосредотачиваться на собственном бедствии. Подобные результаты возникают при исследовании эмоциональных состояний — чувства стыда и вины «в данный момент». При описании личного опыта вины люди выражают большее сочувствие другим, чем при описании опыта стыда (Leith & Baumeister 1998, Tangney et al.
В частности, вина идет рука об руку с сочувствием, ориентированным на других. Напротив, чувство стыда, по-видимому, нарушает способность людей формировать эмпатические связи с другими. Это различное отношение стыда и вины к сочувствию проявляется как на уровне эмоциональной предрасположенности, так и на уровне эмоционального состояния. Исследования эмоциональных предрасположенностей (Joireman 2004; Leith & Baumeister 1998; Tangney 1991, 1995b; Tangney & Dearing 2002) демонстрируют, что предрасположенность к вине постоянно коррелирует с показателями перспективного взгляда и сочувствия.Напротив, предрасположенность к стыду (в зависимости от метода оценки) отрицательно или пренебрежимо коррелирует с эмпатией, ориентированной на других, и положительно связана со склонностью эгоцентрически сосредотачиваться на собственном бедствии. Подобные результаты возникают при исследовании эмоциональных состояний — чувства стыда и вины «в данный момент». При описании личного опыта вины люди выражают большее сочувствие другим, чем при описании опыта стыда (Leith & Baumeister 1998, Tangney et al. 1994). Маршалл (1996) обнаружил, что люди, испытывающие чувство стыда, впоследствии меньше сочувствовали учащимся-инвалидам, особенно среди людей с низкой склонностью к стыду.
1994). Маршалл (1996) обнаружил, что люди, испытывающие чувство стыда, впоследствии меньше сочувствовали учащимся-инвалидам, особенно среди людей с низкой склонностью к стыду.
Почему стыд, но не вина, может мешать сочувствию, ориентированному на других? По сути своей эгоцентрическая направленность стыда на «плохое я» (в отличие от плохого поведения) подрывает эмпатический процесс. Люди, находящиеся в агонии стыда, плотно обращаются внутрь и, таким образом, менее способны сосредоточить когнитивные и эмоциональные ресурсы на пострадавшем другом (Tangney et al. 1994). Напротив, люди, испытывающие чувство вины, специально сосредоточены на плохом поведении, которое, в свою очередь, подчеркивает негативные последствия, испытываемые другими, тем самым стимулируя эмпатическую реакцию и мотивируя людей «исправить ошибку».
Конструктивная и деструктивная реакции на гнев
В-третьих, исследования указывают на прочную связь между стыдом и гневом, которая снова наблюдается как на уровне предрасположенности, так и на уровне государства. В своих более ранних клинических исследованиях Хелен Блок Льюис (1971) наблюдала особую динамику между стыдом и гневом (или униженной яростью), отметив, что чувство стыда клиентов часто предшествовало проявлениям гнева и враждебности в терапевтической комнате. Более поздние эмпирические исследования подтвердили ее утверждение.У людей всех возрастов склонность к стыду положительно коррелирует с гневом, враждебностью и склонностью винить в своих несчастьях факторы, не связанные с самим собой (Andrews et al.2000, Bennett et al.2005, Harper & Arias 2004, Paulhus et al. al.2004, Tangney & Dearing 2002).
В своих более ранних клинических исследованиях Хелен Блок Льюис (1971) наблюдала особую динамику между стыдом и гневом (или униженной яростью), отметив, что чувство стыда клиентов часто предшествовало проявлениям гнева и враждебности в терапевтической комнате. Более поздние эмпирические исследования подтвердили ее утверждение.У людей всех возрастов склонность к стыду положительно коррелирует с гневом, враждебностью и склонностью винить в своих несчастьях факторы, не связанные с самим собой (Andrews et al.2000, Bennett et al.2005, Harper & Arias 2004, Paulhus et al. al.2004, Tangney & Dearing 2002).
Фактически, по сравнению с теми, кто не склонен к стыду, склонные к стыду люди с большей вероятностью будут участвовать в экстернализации вины, испытывать сильный гнев и выражать этот гнев деструктивными способами, включая прямую физическую, словесную и символическую агрессию. , косвенная агрессия (напр.g., причинение вреда чему-то важному для цели, разговор за спиной цели), всевозможные вытесненные агрессии, самонаправленная агрессия и сдерживаемый гнев (невыраженный гнев в задумчивости). Наконец, люди, склонные к стыду, сообщают, что осознают, что их гнев обычно приводит к негативным долгосрочным последствиям как для них самих, так и для их отношений с другими.
Наконец, люди, склонные к стыду, сообщают, что осознают, что их гнев обычно приводит к негативным долгосрочным последствиям как для них самих, так и для их отношений с другими.
Склонность к вине, напротив, неизменно ассоциируется с более конструктивным сочетанием эмоций, познаний и поведения.Например, склонность к «свободной от стыда» вине положительно коррелирует с конструктивными намерениями после проступка и последующим конструктивным поведением (например, без враждебного обсуждения, прямого корректирующего действия). По сравнению со своими сверстниками, склонными к вине, люди с меньшей вероятностью будут проявлять прямую, косвенную или вытесненную агрессию, когда злятся. И они сообщают о положительных долгосрочных последствиях своего гнева (Tangney et al. 1996a). В соответствии с этими выводами, Harper et al.(2005) недавно оценили связь между склонностью к стыду и совершением психологического насилия в отношениях на свиданиях гетеросексуальными мужчинами из колледжа. Склонность к стыду в значительной степени коррелировала с совершением психологического насилия, а мужской гнев опосредовал эти отношения.
Стыд и гнев также связаны на ситуационном уровне (Tangney et al. 1996a, Wicker et al. 1983). Например, в исследовании эпизодов гнева среди романтически вовлеченных пар, опозоренные партнеры были значительно более злыми, с большей вероятностью участвовали в агрессивном поведении и с меньшей вероятностью вызывали примирительное поведение со стороны совершившего преступление второй половинки (Tangney 1995b).Взятые вместе, результаты представляют собой мощный эмпирический пример спирали стыда-гнева, описанной Льюисом (1971) и Шеффом (1987), с ( a ) стыда партнера, ведущего к чувству гнева ( b ) и деструктивному возмездию. , ( c ), который затем вызывает гнев и негодование в преступнике, ( d ), а также выражения вины и возмездия в натуре ( e ), которые затем могут еще больше опозорить первоначально опозоренного партнера. и т. д. — без конструктивного решения.
Недавно Stuewig et al. (2006) исследовали посредников связи между моральными эмоциями и агрессией на четырех выборках. Мы предположили, что негативные чувства, связанные со стыдом, приводят к экстернализации вины, что, в свою очередь, заставляет склонных к стыду людей реагировать агрессивно. С другой стороны, чувство вины должно способствовать эмпатическим процессам, уменьшая, таким образом, агрессию, направленную вовне. Как и ожидалось, мы обнаружили, что во всех выборках экстернализация вины опосредовала отношения между склонностью к стыду и вербальной и физической агрессией.С другой стороны, предрасположенность к вине продолжала демонстрировать прямую обратную связь с агрессией в трех из четырех выборок. Кроме того, связь между виной и низкой агрессией была частично опосредована через ориентированное на других сочувствие и склонность брать на себя ответственность.
Мы предположили, что негативные чувства, связанные со стыдом, приводят к экстернализации вины, что, в свою очередь, заставляет склонных к стыду людей реагировать агрессивно. С другой стороны, чувство вины должно способствовать эмпатическим процессам, уменьшая, таким образом, агрессию, направленную вовне. Как и ожидалось, мы обнаружили, что во всех выборках экстернализация вины опосредовала отношения между склонностью к стыду и вербальной и физической агрессией.С другой стороны, предрасположенность к вине продолжала демонстрировать прямую обратную связь с агрессией в трех из четырех выборок. Кроме того, связь между виной и низкой агрессией была частично опосредована через ориентированное на других сочувствие и склонность брать на себя ответственность.
Короче говоря, стыд и гнев идут рука об руку. Отчаявшись избежать болезненного чувства стыда, опозоренные люди склонны перевернуть стол в оборонительном порядке, выдавая вину и гнев извне на удобного козла отпущения.Обвинение других может помочь людям вернуть чувство контроля и превосходства в своей жизни, но в долгосрочной перспективе это часто обходится дорого.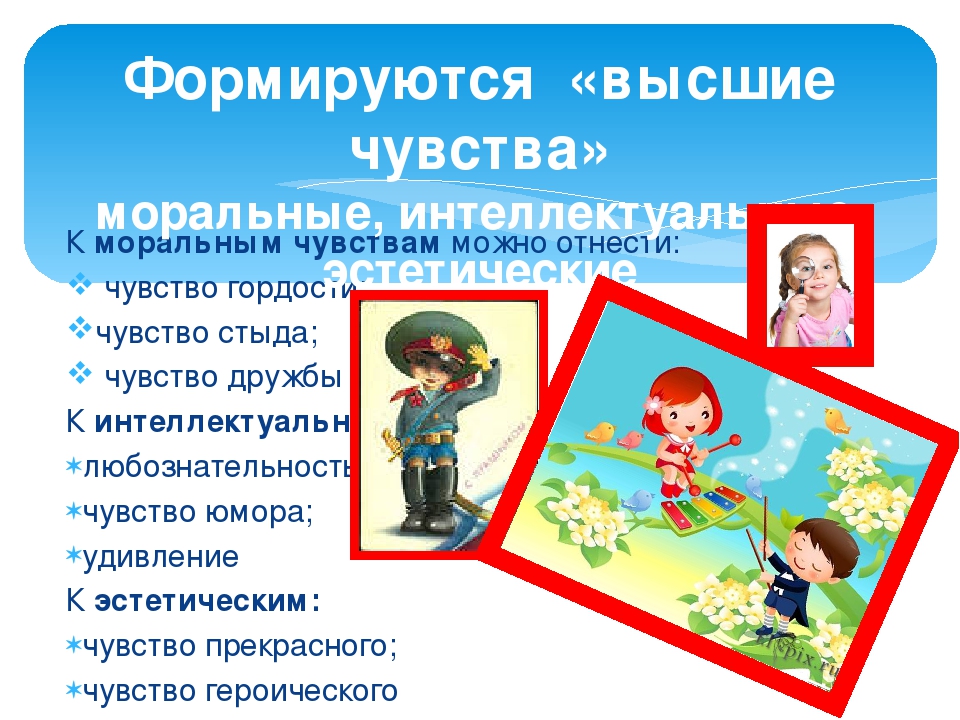 Друзья, коллеги и близкие склонны отчуждаться из-за стиля межличностного общения, характеризующегося иррациональными вспышками гнева.
Друзья, коллеги и близкие склонны отчуждаться из-за стиля межличностного общения, характеризующегося иррациональными вспышками гнева.
Психологические симптомы
При рассмотрении области социального поведения и межличностной адаптации эмпирические исследования показывают, что вина, в целом, является более нравственной или адаптивной эмоцией. Вина, по-видимому, мотивирует репаративные действия, способствует сочувствию, ориентированному на других, и способствует конструктивным стратегиям совладания с гневом.Но есть ли внутриличностные или внутрипсихические издержки для тех людей, которые склонны испытывать чувство вины? Приводит ли склонность к вине к тревоге, депрессии и / или потере самооценки? И наоборот, разве стыд, возможно, менее проблематичен для внутриличностной адаптации, чем для межличностной адаптации?
В случае стыда ответ ясен. Исследования последних двух десятилетий неизменно показывают, что склонность к стыду связана с широким спектром психологических симптомов. Они варьируются от низкой самооценки, депрессии и беспокойства до симптомов расстройства пищевого поведения, посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и суицидальных мыслей (Andrews et al.2000, Эшби и др. 2006 г., Брюин и др. 2000, Crossley & Rockett 2005, Feiring & Taska 2005, Feiring et al. 2002 г., Фергюсон и др. 2000, Ghatavi et al. 2002, Харпер и Ариас 2004, Хендерсон и Зимбардо 2001, Лескела и др. 2002, Mills 2003, Murray et al. 2000, Орсилло и др. 1996 г., Sanftner et al. 1995 г., Стювиг и Макклоски, 2005 г .; см. также обзор в Tangney & Dearing 2002). Негативные психологические последствия стыда очевидны для разных методов измерения, разных возрастных групп и групп населения.Как клиническая литература, так и эмпирические исследования согласны с тем, что люди, часто испытывающие чувство стыда за себя, соответственно, более уязвимы перед целым рядом психологических проблем.
Они варьируются от низкой самооценки, депрессии и беспокойства до симптомов расстройства пищевого поведения, посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и суицидальных мыслей (Andrews et al.2000, Эшби и др. 2006 г., Брюин и др. 2000, Crossley & Rockett 2005, Feiring & Taska 2005, Feiring et al. 2002 г., Фергюсон и др. 2000, Ghatavi et al. 2002, Харпер и Ариас 2004, Хендерсон и Зимбардо 2001, Лескела и др. 2002, Mills 2003, Murray et al. 2000, Орсилло и др. 1996 г., Sanftner et al. 1995 г., Стювиг и Макклоски, 2005 г .; см. также обзор в Tangney & Dearing 2002). Негативные психологические последствия стыда очевидны для разных методов измерения, разных возрастных групп и групп населения.Как клиническая литература, так и эмпирические исследования согласны с тем, что люди, часто испытывающие чувство стыда за себя, соответственно, более уязвимы перед целым рядом психологических проблем.
Хотя традиционная точка зрения состоит в том, что вина играет важную роль в психологических симптомах, эмпирические результаты были более двусмысленными. Клиническая теория и тематические исследования часто ссылаются на неадаптивную вину, характеризующуюся хроническим самообвинением и навязчивыми размышлениями о своих проступках (Blatt 1974, Ellis 1962, Freud 1924/1961, Hartmann & Loewenstein 1962, Rodin et al.1984, Weiss 1993). Однако недавно теоретики и исследователи подчеркнули адаптивные функции вины, особенно в отношении межличностного поведения (Baumeister et al. 1994, 1995a; Hoffman 1982; Tangney 1991, 1994, 1995b; Tangney et al. 1992; Tangney & Dearing 2002).
Клиническая теория и тематические исследования часто ссылаются на неадаптивную вину, характеризующуюся хроническим самообвинением и навязчивыми размышлениями о своих проступках (Blatt 1974, Ellis 1962, Freud 1924/1961, Hartmann & Loewenstein 1962, Rodin et al.1984, Weiss 1993). Однако недавно теоретики и исследователи подчеркнули адаптивные функции вины, особенно в отношении межличностного поведения (Baumeister et al. 1994, 1995a; Hoffman 1982; Tangney 1991, 1994, 1995b; Tangney et al. 1992; Tangney & Dearing 2002).
Пытаясь согласовать эти точки зрения, Тангни (1996) утверждал, что более ранние работы не учитывали различие между виной и стыдом. Как только человек воспринимает вину как отрицательную эмоцию в ответ на конкретную неудачу или проступок, нет веских причин ожидать, что вина будет связана с плохой психологической адаптацией.Напротив, чувство вины, скорее всего, будет дезадаптивным, когда оно сольется со стыдом. Преимущества вины теряются, когда переживание вины человека («О, посмотрите, что за ужасная вещь , , я сделал , ») усиливается и обобщается на его личность («… , а я ужасный »). человек ”). В конечном счете, проблема заключается в компоненте стыда, а не в компоненте вины, поскольку человек испытывает чувство презрения и отвращения к плохому, дефектному «я».
человек ”). В конечном счете, проблема заключается в компоненте стыда, а не в компоненте вины, поскольку человек испытывает чувство презрения и отвращения к плохому, дефектному «я».
Более того, такое болезненное чувство стыда трудно преодолеть. Стыд — и смешанная со стыдом вина — предлагают мало возможностей для искупления. Преобразовать «я», дефектное по своей сути, — непростая задача. Таким образом, чувство вины с наложением стыда, скорее всего, является источником болезненного самобичевания и размышлений, так часто описываемых в клинической литературе. Напротив, обычно существует множество путей к искуплению в случае несложного чувства вины, сосредоточенного на конкретном поведении.Человек ( на ) часто имеет возможность изменить нежелательное поведение; ( b ) или, что еще лучше, имеет возможность устранить негативные последствия; ( c ) или, по крайней мере, может принести искренние извинения. И когда невозможно внести эти внешние поправки, можно решить поступить лучше в будущем.
В соответствии с этим концептуальным анализом, эмпирические исследования, которые не принимают во внимание различие между стыдом и виной или которые используют прилагательные контрольный список (и другие глобальные формулировки) меры, которые плохо подходят для различия между стыдом и виной, сообщают что предрасположенность к вине связана с психологическими симптомами (Boye et al.2002, Fontana & Rosenbeck 2004, Ghatavi et al. 2002, Harder 1995, Jones & Kugler 1993, Meehan et al. 1996). Например, используя опросник межличностной вины (O’Connor et al. 1997), Бергольд и Локк (2002) обнаружили, что только шкала вины «ненависти к себе» различает контрольную группу и подростков с диагнозом нервной анорексии. (Авторы пришли к выводу, что на самом деле стыд, а не вина, более важен для клинического понимания этого расстройства пищевого поведения.) конкретное поведение (например,g., основанные на сценариях методы оценки стыда и вины применительно к конкретным ситуациям) показывают, что склонность испытывать «свободную от стыда» вину по существу не связана с психологическими симптомами. Многочисленные независимые исследования сходятся во мнении: склонные к вине дети, подростки и взрослые не подвержены повышенному риску депрессии, беспокойства, низкой самооценки и т. Д. (Gramzow & Tangney 1992; Leskela et al. 2002; McLaughlin 2002; Quiles & Bybee 1997 ; Schaefer 2000; Stuewig & McCloskey 2005; Tangney 1994; Tangney & Dearing 2002; Tangney et al.1991, 1992, 1995).
Многочисленные независимые исследования сходятся во мнении: склонные к вине дети, подростки и взрослые не подвержены повышенному риску депрессии, беспокойства, низкой самооценки и т. Д. (Gramzow & Tangney 1992; Leskela et al. 2002; McLaughlin 2002; Quiles & Bybee 1997 ; Schaefer 2000; Stuewig & McCloskey 2005; Tangney 1994; Tangney & Dearing 2002; Tangney et al.1991, 1992, 1995).
Тем не менее, стоит отметить, что в большинстве сценариев оценки стыда и вины (включая Тест на самосознание, или TOSCA), большинство ситуаций относительно неоднозначны в отношении ответственности или виновности. Для ситуаций с отрицательной валентностью (но не с положительной валентностью) респондентов просят представить события, в которых они явно потерпели неудачу или каким-то образом нарушили их. Проблемы могут возникать, когда у людей развивается преувеличенное или искаженное чувство ответственности за события, которые находятся вне их контроля или в которые они не имеют личного участия (Ferguson et al. 2000, Tangney & Dearing 2002, Zahn-Waxler & Robinson 1995). Вина пережившего — яркий пример такой проблемной реакции вины, которая постоянно связана с психологической дезадаптацией (Кубани и др., 1995, 2004; О’Коннор и др., 2002). В экспериментальном исследовании детей младшего школьного возраста Ferguson et al. (2000) варьировали степень неоднозначности ситуаций в рамках основанной на сценарии меры в отношении ответственности. Они обнаружили положительную взаимосвязь между интернализирующими симптомами (например,ж., депрессия) и склонность к вине особенно в ситуациях, когда ответственность была неоднозначной.
2000, Tangney & Dearing 2002, Zahn-Waxler & Robinson 1995). Вина пережившего — яркий пример такой проблемной реакции вины, которая постоянно связана с психологической дезадаптацией (Кубани и др., 1995, 2004; О’Коннор и др., 2002). В экспериментальном исследовании детей младшего школьного возраста Ferguson et al. (2000) варьировали степень неоднозначности ситуаций в рамках основанной на сценарии меры в отношении ответственности. Они обнаружили положительную взаимосвязь между интернализирующими симптомами (например,ж., депрессия) и склонность к вине особенно в ситуациях, когда ответственность была неоднозначной.
Короче говоря, преимущества вины очевидны, когда люди признают свои неудачи и проступки и берут на себя соответствующую ответственность за свои проступки. В таких ситуациях межличностная выгода от чувства вины, по-видимому, не обходится человеку дорого. Склонность испытывать «свободную от стыда» вину в ответ на явные проступки, как правило, не связана с психологическими проблемами, тогда как стыд неизменно ассоциируется с дезадаптивными процессами и результатами на нескольких уровнях.
Связь моральных эмоций с рискованным, незаконным и нежелательным поведением
Поскольку стыд и вина являются болезненными эмоциями, часто предполагается, что они побуждают людей избегать неправильных поступков. С этой точки зрения ожидаемые стыд и вина должны снизить вероятность проступка и нарушения правил поведения. Но что именно показывают данные?
Эмпирические исследования различных выборок с использованием ряда критериев ясно показывают, что предрасположенность к вине обратно пропорциональна антиобщественному и рискованному поведению.В исследовании студентов колледжей (Tangney, 1994) предрасположенность к вине ассоциировалась с одобрением таких вещей, как «Я бы не украл то, что мне было нужно, даже если бы я был уверен, что мне это сойдет с рук». Точно так же Тиббетс (2003) обнаружил, что предрасположенность студентов колледжа к вине обратно пропорциональна их преступной деятельности, о которой они сообщают сами. Среди подростков склонность к свободному от стыда чувству вины отрицательно коррелировала с правонарушением (Merisca & Bybee 1994, Stuewig & McCloskey 2005; хотя Ferguson et al. 1999 обнаружил отрицательную связь между предрасположенностью к вине и проявлением симптомов у мальчиков, противоположное верно для девочек). Моральные эмоции, по-видимому, хорошо укоренились в среднем детстве и будут влиять на моральное поведение на долгие годы (Tangney & Dearing 2002). Дети, склонные к бесстыдному чувству вины в пятом классе, в подростковом возрасте реже подвергались аресту, осуждению и тюремному заключению. Они с большей вероятностью практиковали безопасный секс и реже злоупотребляли наркотиками.Важно отметить, что эти результаты действовали при контроле семейного дохода и образования матерей. Учащиеся колледжей, склонные к чувству вины, также реже злоупотребляют наркотиками и алкоголем (Dearing et al. 2005). Даже среди взрослых, уже находящихся в группе высокого риска, чувство вины, по-видимому, выполняет защитную функцию. В продольном исследовании заключенных тюрьмы, предрасположенность к вине, оцененная вскоре после заключения, негативно предсказывала рецидивизм и злоупотребление психоактивными веществами в течение первого года после освобождения (Tangney et al.
1999 обнаружил отрицательную связь между предрасположенностью к вине и проявлением симптомов у мальчиков, противоположное верно для девочек). Моральные эмоции, по-видимому, хорошо укоренились в среднем детстве и будут влиять на моральное поведение на долгие годы (Tangney & Dearing 2002). Дети, склонные к бесстыдному чувству вины в пятом классе, в подростковом возрасте реже подвергались аресту, осуждению и тюремному заключению. Они с большей вероятностью практиковали безопасный секс и реже злоупотребляли наркотиками.Важно отметить, что эти результаты действовали при контроле семейного дохода и образования матерей. Учащиеся колледжей, склонные к чувству вины, также реже злоупотребляют наркотиками и алкоголем (Dearing et al. 2005). Даже среди взрослых, уже находящихся в группе высокого риска, чувство вины, по-видимому, выполняет защитную функцию. В продольном исследовании заключенных тюрьмы, предрасположенность к вине, оцененная вскоре после заключения, негативно предсказывала рецидивизм и злоупотребление психоактивными веществами в течение первого года после освобождения (Tangney et al. 2006).
2006).
Картина результатов для стыда совершенно иная, практически нет доказательств, подтверждающих предполагаемую адаптивную природу стыда.В исследованиях детей, подростков, студентов колледжей и сокамерников стыд, по-видимому, не выполняет те же тормозящие функции, что и вина (Dearing et al. 2005, Stuewig & McCloskey 2005, Tangney et al. 1996b). Напротив, исследования показывают, что стыд может даже ухудшить положение. В исследовании детей Ferguson et al. (1999) обнаружили, что предрасположенность к стыду положительно коррелирует с внешними симптомами в Контрольном списке поведения детей. На выборке студентов колледжа Тиббетс (1997) обнаружил положительную взаимосвязь между склонностью к стыду и намерениями противозаконного поведения.Предрасположенность к стыду, оцененная в пятом классе, предсказывала более позднее рискованное поведение при вождении, более раннее начало употребления наркотиков и алкоголя и более низкую вероятность практики безопасного секса (Tangney & Dearing 2002). Точно так же склонность к проблемному чувству стыда была положительно связана с употреблением психоактивных веществ и злоупотреблением ими в зрелом возрасте (Dearing et al. 2005, Meehan et al. 1996, O’Connor et al. 1994, Tangney et al. 2006).
Точно так же склонность к проблемному чувству стыда была положительно связана с употреблением психоактивных веществ и злоупотреблением ими в зрелом возрасте (Dearing et al. 2005, Meehan et al. 1996, O’Connor et al. 1994, Tangney et al. 2006).
Дифференциальная связь стыда и вины с моральным поведением не может распространяться на все группы населения по отношению ко всем видам поведения.Харрис (2003) оценил опыт стыда и вины среди лиц, управляющих транспортным средством в нетрезвом виде, после их появления в суде или на конференции по восстановительному правосудию. В отличие от большинства дошедших до нас исследований, Харрис не обнаружил доказательств того, что стыд и вина являются отдельными факторами. Важно отметить, что это исследование было сосредоточено на уникальной однородной выборке (осужденные водители в нетрезвом виде, многие из которых имеют проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами) и на одном типе правонарушений. Открытия Харриса поднимают интригующую возможность того, что люди с проблемами злоупотребления психоактивными веществами могут не иметь четко дифференцированных переживаний стыда и вины. С другой стороны, чувство вины и сопутствующее ей эмпатическое сосредоточение на пострадавшем другом могут быть менее значимыми для проступков, таких как вождение в нетрезвом виде, которые обычно не приводят к объективному физическому ущербу для других. (То есть масштабы последствий автомобильной аварии потенциально огромны, тогда как вероятность ее возникновения в каждом конкретном случае довольно мала. Большинство преступников, управляющих автомобилем в нетрезвом виде, арестовываются за неуравновешенное вождение, а не на месте аварии с фактическим участием причинение вреда другому человеку.)
С другой стороны, чувство вины и сопутствующее ей эмпатическое сосредоточение на пострадавшем другом могут быть менее значимыми для проступков, таких как вождение в нетрезвом виде, которые обычно не приводят к объективному физическому ущербу для других. (То есть масштабы последствий автомобильной аварии потенциально огромны, тогда как вероятность ее возникновения в каждом конкретном случае довольно мала. Большинство преступников, управляющих автомобилем в нетрезвом виде, арестовываются за неуравновешенное вождение, а не на месте аварии с фактическим участием причинение вреда другому человеку.)
В итоге, эмпирические результаты сходятся, показывая, что чувство вины, но не стыда, является наиболее эффективным средством мотивации людей к выбору нравственного пути в жизни. Способность чувствовать вину более склонна к формированию модели морального поведения на протяжении всей жизни, мотивируя людей брать на себя ответственность и принимать меры по исправлению положения после случайных неудач или проступков. Напротив, исследования связывают стыд с целым рядом незаконных, рискованных или других проблемных видов поведения. Таким образом, при рассмотрении благополучия человека, его или ее близких отношений или общества чувство вины представляет собой нравственную эмоцию выбора.
Напротив, исследования связывают стыд с целым рядом незаконных, рискованных или других проблемных видов поведения. Таким образом, при рассмотрении благополучия человека, его или ее близких отношений или общества чувство вины представляет собой нравственную эмоцию выбора.
Моральные эмоции и нравственное поведение
Подавляющее большинство исследований моральных эмоций сосредоточено на двух негативно оцененных, застенчивых эмоциях — стыде и вине. Многие люди, включая врачей, исследователей и простых людей, используют термин «стыд» »И« вина »- синонимы. Тем не менее, на протяжении многих лет было предпринято несколько попыток провести различие между стыдом и виной.
В чем разница между стыдом и виной?
Попытки провести различие между стыдом и виной делятся на три категории: ( a ) различие, основанное на типах вызывающих событий, ( b ) различие, основанное на публичном и частном характере преступления, и ( c ) различие, основанное на степени, в которой человек истолковывает вызывающее эмоции событие как неудачу в себе или поведении.
Исследования показывают, что тип событий на удивление мало связан с различием между стыдом и виной. Анализ личного опыта стыда и вины, предоставленный детьми и взрослыми, выявил несколько, если вообще имелись, «классических» ситуаций, вызывающих стыд или вину (Keltner & Buswell 1996, Tangney 1992, Tangney et al. 1994, Tracy & Robins 2006). Большинство типов событий (например, ложь, обман, воровство, отказ помочь другому, непослушание родителям) цитируются одними людьми в связи с чувством стыда, а другие — в связи с чувством вины.Некоторые исследователи утверждают, что стыд вызывается более широким кругом ситуаций, включая как моральные, так и неморальные неудачи и проступки, тогда как вина более конкретно связана с проступками в моральной сфере (Ferguson et al.1991, Sabini & Silver 1997, Smith et al. 2002). На наш взгляд (Tangney et al., 2006b), как и вина его брата и сестры, стыд квалифицируется как преимущественно моральная эмоция, если выйти за рамки узкого концептуального представления области морали с точки зрения этики автономии (Shweder et al. 1997). Из этики морали «большой тройки» — автономии, сообщества и божественности (Shweder et al. 1997) — стыд может быть более тесно связан с нарушениями этики сообщества (например, нарушения общественного порядка) и божественности (например, , действия, которые напоминают нам о нашей животной природе), но нарушения определенной этики не имеют однозначного соответствия конкретным ситуациям или событиям. Как показали Shweder et al. (1997), большинство неудач и нарушений воспринимаются как относящиеся к сочетанию моральной этики.Короче говоря, с этой более широкой культурной точки зрения стыд и вина — это эмоции, каждая из которых в первую очередь вызвана моральными упущениями.
1997). Из этики морали «большой тройки» — автономии, сообщества и божественности (Shweder et al. 1997) — стыд может быть более тесно связан с нарушениями этики сообщества (например, нарушения общественного порядка) и божественности (например, , действия, которые напоминают нам о нашей животной природе), но нарушения определенной этики не имеют однозначного соответствия конкретным ситуациям или событиям. Как показали Shweder et al. (1997), большинство неудач и нарушений воспринимаются как относящиеся к сочетанию моральной этики.Короче говоря, с этой более широкой культурной точки зрения стыд и вина — это эмоции, каждая из которых в первую очередь вызвана моральными упущениями.
Другое часто упоминаемое различие между стыдом и виной сосредоточено на публичном и частном характере нарушений (например, Benedict 1946). С этой точки зрения стыд рассматривается как более «публичная» эмоция, возникающая в результате публичного разоблачения и неодобрения некоторых недостатков или нарушений. С другой стороны, вина понимается как более «личное» переживание, возникающее из самопроизвольных угрызений совести.Как оказалось, эмпирические исследования не смогли подтвердить это различие между общественным и частным с точки зрения фактической структуры ситуации, вызывающей эмоции (Tangney et al. 1994, 1996a). Например, систематический анализ социального контекста личных событий, вызывающих стыд и чувство вины, описанных несколькими сотнями детей и взрослых (Tangney et al. 1994), показал, что стыд и вина с одинаковой вероятностью могут испытываться в присутствии других. Одиночные переживания стыда были столь же обычны, как и переживания одиночной вины.Что еще более важно, частота, с которой другие узнавали о поведении респондентов, не менялась в зависимости от стыда и вины, что прямо противоречит различию между общественным и частным. Точно так же, изучая личные эмоциональные рассказы, Трейси и Робинс (2006) обнаружили, что по сравнению с чувством вины стыд несколько чаще вызывался событиями достижений и личными событиями, каждое из которых является более частным, чем события в отношениях и в семье.
С другой стороны, вина понимается как более «личное» переживание, возникающее из самопроизвольных угрызений совести.Как оказалось, эмпирические исследования не смогли подтвердить это различие между общественным и частным с точки зрения фактической структуры ситуации, вызывающей эмоции (Tangney et al. 1994, 1996a). Например, систематический анализ социального контекста личных событий, вызывающих стыд и чувство вины, описанных несколькими сотнями детей и взрослых (Tangney et al. 1994), показал, что стыд и вина с одинаковой вероятностью могут испытываться в присутствии других. Одиночные переживания стыда были столь же обычны, как и переживания одиночной вины.Что еще более важно, частота, с которой другие узнавали о поведении респондентов, не менялась в зависимости от стыда и вины, что прямо противоречит различию между общественным и частным. Точно так же, изучая личные эмоциональные рассказы, Трейси и Робинс (2006) обнаружили, что по сравнению с чувством вины стыд несколько чаще вызывался событиями достижений и личными событиями, каждое из которых является более частным, чем события в отношениях и в семье.
Откуда взялось представление о том, что стыд — это более публичная эмоция? Хотя ситуации, вызывающие стыд и чувство вины, одинаково публичны (с точки зрения вероятности того, что другие присутствуют и знают о неудаче или проступке) и в равной степени могут включать межличностные проблемы, по всей видимости, существуют систематические различия в природе этих межличностных проблем. .Tangney et al. (1994) обнаружили, что при описании ситуаций, вызывающих стыд, респонденты больше беспокоились о том, как другие оценивают себя. Напротив, при описании переживаний вины респондентов больше беспокоило их влияние на других. Это различие между «эгоцентрическими» и «ориентированными на других» проблемами неудивительно, учитывая, что стыд предполагает сосредоточение на себе, тогда как вина относится к определенному поведению. Опозоренный человек, который сосредоточен на отрицательной самооценке, естественно, будет обеспокоен оценками других.Это небольшой прыжок от размышлений о том, какой ты ужасный человек, к размышлениям о том, как тебя могут оценивать другие. С другой стороны, человек, испытывающий чувство вины, уже относительно «децентрализован» — сосредотачивается на негативном поведении, несколько отличном от себя. Сосредоточившись на плохом поведении, а не на плохом себе, человек, переживающий переживание вины, с большей вероятностью осознает (и будет беспокоиться) о влиянии этого поведения на других, а не на их оценки. В нескольких последующих исследованиях (Smith et al.2002) предоставляют достаточно доказательств того, что стыд связан с такими опасениями. Например, участники, призванные сосредоточиться на публичном разоблачении морального проступка, приписывали равные уровни стыда и вины главным героям рассказов, но когда публичное и личное измерение не выделялось, участники приписывали меньше стыда (вина была одинаково высокой в зависимости от условий). Однако вместе взятые выводы Смита и др. Согласуются с представлением о том, что люди сосредотачиваются на оценках других, потому что они чувствуют стыд, а не наоборот.Когда участников попросили подумать о ситуации, в которой они чувствовали себя плохо из-за того, что их подчиненный аспект « был раскрыт или публично раскрыл другому человеку или другим людям» (стр.
С другой стороны, человек, испытывающий чувство вины, уже относительно «децентрализован» — сосредотачивается на негативном поведении, несколько отличном от себя. Сосредоточившись на плохом поведении, а не на плохом себе, человек, переживающий переживание вины, с большей вероятностью осознает (и будет беспокоиться) о влиянии этого поведения на других, а не на их оценки. В нескольких последующих исследованиях (Smith et al.2002) предоставляют достаточно доказательств того, что стыд связан с такими опасениями. Например, участники, призванные сосредоточиться на публичном разоблачении морального проступка, приписывали равные уровни стыда и вины главным героям рассказов, но когда публичное и личное измерение не выделялось, участники приписывали меньше стыда (вина была одинаково высокой в зависимости от условий). Однако вместе взятые выводы Смита и др. Согласуются с представлением о том, что люди сосредотачиваются на оценках других, потому что они чувствуют стыд, а не наоборот.Когда участников попросили подумать о ситуации, в которой они чувствовали себя плохо из-за того, что их подчиненный аспект « был раскрыт или публично раскрыл другому человеку или другим людям» (стр. 154; курсив добавлен), большинство описали спонтанно. возникшее чувство стыда — только 6,7% определили это чувство как стыд (вдвое больше опрошенных определили это чувство как вину). Точно так же и в моральном состоянии (плохое самочувствие из-за того, что «что-то не так» было разоблачено) модальным эмоциональным термином было смущение — в три раза чаще, чем стыд (который был не чаще, чем вина).Короче говоря, испытывая стыд, люди могут чувствовать себя более уязвимыми — лучше осознавать неодобрение других — но в действительности ситуации, вызывающие как стыд, так и вину, обычно носят социальный характер. Чаще всего наши ошибки и проступки не ускользают от внимания других.
154; курсив добавлен), большинство описали спонтанно. возникшее чувство стыда — только 6,7% определили это чувство как стыд (вдвое больше опрошенных определили это чувство как вину). Точно так же и в моральном состоянии (плохое самочувствие из-за того, что «что-то не так» было разоблачено) модальным эмоциональным термином было смущение — в три раза чаще, чем стыд (который был не чаще, чем вина).Короче говоря, испытывая стыд, люди могут чувствовать себя более уязвимыми — лучше осознавать неодобрение других — но в действительности ситуации, вызывающие как стыд, так и вину, обычно носят социальный характер. Чаще всего наши ошибки и проступки не ускользают от внимания других.
В настоящее время наиболее доминирующая основа для различения стыда и вины — сосредоточение внимания на себе и на поведении — была впервые предложена Хелен Блок Льюис (1971), а позднее разработана оценочной моделью самосознательных эмоций Трейси и Робинс (2004a). .Согласно Льюису (1971), стыд предполагает негативную оценку глобального «я»; вина предполагает отрицательную оценку конкретного поведения. Хотя это различие на первый взгляд может показаться довольно тонким, эмпирические исследования подтверждают, что этот дифференцированный акцент на себя (« Я сделал эту ужасную вещь») по сравнению с поведением («Я сделал эту ужасную вещь ») устанавливает сцена для очень разных эмоциональных переживаний и очень разных моделей мотивации и последующего поведения.
И стыд, и вина являются отрицательными эмоциями и, как таковые, могут вызывать интрапсихическую боль. Тем не менее стыд считается более болезненной эмоцией, потому что на карту поставлено не просто поведение, а сущность человека. Чувство стыда обычно сопровождается ощущением сжатия или «маленького размера», а также чувством никчемности и беспомощности. Опозоренные люди тоже чувствуют себя незащищенными. Хотя стыд не обязательно подразумевает реальную наблюдающую аудиторию, присутствующую для того, чтобы засвидетельствовать свои недостатки, часто возникают образы того, как дефектное «я» могло бы показаться другим.Льюис (1971) описал раскол в самофункционировании, при котором «я» является одновременно агентом и объектом наблюдения и неодобрения. С другой стороны, вина, как правило, является менее разрушительным и менее болезненным переживанием, потому что объектом осуждения является конкретное поведение, а не все я. Вместо того, чтобы защищать обнаженную суть своей личности, люди, испытывающие муки вины, вынуждены задуматься о своем поведении и его последствиях. Такая концентрация приводит к напряжению, угрызениям совести и сожалениям о «плохом поступке».
Эмпирическое подтверждение разграничения стыда и вины Льюисом (1971) исходит из ряда экспериментальных и корреляционных исследований с использованием ряда методов, включая качественный анализ конкретных случаев, анализ содержания рассказов о стыде и вине, количественные оценки личного стыда участниками. и переживания вины, анализ атрибуции, связанной со стыдом и виной, и анализ контрфактического мышления участников (обзор см. в Tangney & Dearing 2002).Например, совсем недавно Трейси и Робинс (2006) использовали как экспериментальные, так и корреляционные методы, показывающие, что внутренние, стабильные, неконтролируемые приписывания неудач положительно связаны со стыдом, тогда как внутренние, нестабильные, контролируемые приписывания неудач положительно связаны с чувством вины.
Стыд и вина — это не одинаково «моральные» эмоции
Одна из постоянных тем, вытекающих из эмпирических исследований, заключается в том, что стыд и вина не являются в равной степени «моральными» эмоциями.В целом вина кажется более адаптивной эмоцией, приносящей пользу отдельным людям и их отношениям различными способами (Baumeister et al.1994, 1995a, b; Tangney 1991, 1995a, b), но появляется все больше свидетельств того, что стыд — это моральные эмоции, которые легко могут пойти наперекосяк (Tangney 1991, 1995a, b; Tangney et al. 1996b).
В этом разделе мы суммируем исследования в пяти областях, которые иллюстрируют адаптивные функции вины в отличие от скрытых издержек стыда. В частности, мы сосредотачиваемся на дифференциальной взаимосвязи стыда и вины с мотивацией (сокрытие или исправление), сопереживания, ориентированного на других, гнева и агрессии, психологических симптомов и сдерживания проступка и другого рискованного, социально нежелательного поведения.
Сокрытие и исправление
Исследования неизменно показывают, что стыд и вина приводят к противоположным мотивам или «тенденциям к действию» (Ketelaar & Au 2003, Lewis 1971, Lindsay-Hartz 1984, Tangney 1993, Tangney et al. 1996a, Wallbott & Scherer 1995 , Wicker et al., 1983). С одной стороны, стыд соответствует попыткам отрицать, скрыть или избежать вызывающей стыд ситуации. Физиологические исследования связывают переживание стыда с повышенным уровнем провоспалительных цитокинов и кортизола (Dickerson et al.2004a), которые могут вызывать постуральные признаки почтения и самопрятности (см. Новые направления в исследованиях стыда и вины: физиологические корреляты стыда). С другой стороны, вина соответствует репаративным действиям, включая признания, извинения и устранение последствий поведения. В целом, эмпирические данные, оценивающие склонность к действиям людей, испытывающих стыд и вину, позволяют предположить, что чувство вины способствует конструктивным, проактивным занятиям, тогда как стыд способствует защите, межличностному разделению и дистанцированию.
Сочувствие, ориентированное на других, против самоориентированного дистресса
Во-вторых, стыд и вина по-разному связаны с сочувствием. В частности, вина идет рука об руку с сочувствием, ориентированным на других. Напротив, чувство стыда, по-видимому, нарушает способность людей формировать эмпатические связи с другими. Это различное отношение стыда и вины к сочувствию проявляется как на уровне эмоциональной предрасположенности, так и на уровне эмоционального состояния. Исследования эмоциональных предрасположенностей (Joireman 2004; Leith & Baumeister 1998; Tangney 1991, 1995b; Tangney & Dearing 2002) демонстрируют, что предрасположенность к вине постоянно коррелирует с показателями перспективного взгляда и сочувствия.Напротив, предрасположенность к стыду (в зависимости от метода оценки) отрицательно или пренебрежимо коррелирует с эмпатией, ориентированной на других, и положительно связана со склонностью эгоцентрически сосредотачиваться на собственном бедствии. Подобные результаты возникают при исследовании эмоциональных состояний — чувства стыда и вины «в данный момент». При описании личного опыта вины люди выражают большее сочувствие другим, чем при описании опыта стыда (Leith & Baumeister 1998, Tangney et al. 1994). Маршалл (1996) обнаружил, что люди, испытывающие чувство стыда, впоследствии меньше сочувствовали учащимся-инвалидам, особенно среди людей с низкой склонностью к стыду.
Почему стыд, но не вина, может мешать сочувствию, ориентированному на других? По сути своей эгоцентрическая направленность стыда на «плохое я» (в отличие от плохого поведения) подрывает эмпатический процесс. Люди, находящиеся в агонии стыда, плотно обращаются внутрь и, таким образом, менее способны сосредоточить когнитивные и эмоциональные ресурсы на пострадавшем другом (Tangney et al. 1994). Напротив, люди, испытывающие чувство вины, специально сосредоточены на плохом поведении, которое, в свою очередь, подчеркивает негативные последствия, испытываемые другими, тем самым стимулируя эмпатическую реакцию и мотивируя людей «исправить ошибку».
Конструктивная и деструктивная реакции на гнев
В-третьих, исследования указывают на прочную связь между стыдом и гневом, которая снова наблюдается как на уровне предрасположенности, так и на уровне государства. В своих более ранних клинических исследованиях Хелен Блок Льюис (1971) наблюдала особую динамику между стыдом и гневом (или униженной яростью), отметив, что чувство стыда клиентов часто предшествовало проявлениям гнева и враждебности в терапевтической комнате. Более поздние эмпирические исследования подтвердили ее утверждение.У людей всех возрастов склонность к стыду положительно коррелирует с гневом, враждебностью и склонностью винить в своих несчастьях факторы, не связанные с самим собой (Andrews et al.2000, Bennett et al.2005, Harper & Arias 2004, Paulhus et al. al.2004, Tangney & Dearing 2002).
Фактически, по сравнению с теми, кто не склонен к стыду, склонные к стыду люди с большей вероятностью будут участвовать в экстернализации вины, испытывать сильный гнев и выражать этот гнев деструктивными способами, включая прямую физическую, словесную и символическую агрессию. , косвенная агрессия (напр.g., причинение вреда чему-то важному для цели, разговор за спиной цели), всевозможные вытесненные агрессии, самонаправленная агрессия и сдерживаемый гнев (невыраженный гнев в задумчивости). Наконец, люди, склонные к стыду, сообщают, что осознают, что их гнев обычно приводит к негативным долгосрочным последствиям как для них самих, так и для их отношений с другими.
Склонность к вине, напротив, неизменно ассоциируется с более конструктивным сочетанием эмоций, познаний и поведения.Например, склонность к «свободной от стыда» вине положительно коррелирует с конструктивными намерениями после проступка и последующим конструктивным поведением (например, без враждебного обсуждения, прямого корректирующего действия). По сравнению со своими сверстниками, склонными к вине, люди с меньшей вероятностью будут проявлять прямую, косвенную или вытесненную агрессию, когда злятся. И они сообщают о положительных долгосрочных последствиях своего гнева (Tangney et al. 1996a). В соответствии с этими выводами, Harper et al.(2005) недавно оценили связь между склонностью к стыду и совершением психологического насилия в отношениях на свиданиях гетеросексуальными мужчинами из колледжа. Склонность к стыду в значительной степени коррелировала с совершением психологического насилия, а мужской гнев опосредовал эти отношения.
Стыд и гнев также связаны на ситуационном уровне (Tangney et al. 1996a, Wicker et al. 1983). Например, в исследовании эпизодов гнева среди романтически вовлеченных пар, опозоренные партнеры были значительно более злыми, с большей вероятностью участвовали в агрессивном поведении и с меньшей вероятностью вызывали примирительное поведение со стороны совершившего преступление второй половинки (Tangney 1995b).Взятые вместе, результаты представляют собой мощный эмпирический пример спирали стыда-гнева, описанной Льюисом (1971) и Шеффом (1987), с ( a ) стыда партнера, ведущего к чувству гнева ( b ) и деструктивному возмездию. , ( c ), который затем вызывает гнев и негодование в преступнике, ( d ), а также выражения вины и возмездия в натуре ( e ), которые затем могут еще больше опозорить первоначально опозоренного партнера. и т. д. — без конструктивного решения.
Недавно Stuewig et al. (2006) исследовали посредников связи между моральными эмоциями и агрессией на четырех выборках. Мы предположили, что негативные чувства, связанные со стыдом, приводят к экстернализации вины, что, в свою очередь, заставляет склонных к стыду людей реагировать агрессивно. С другой стороны, чувство вины должно способствовать эмпатическим процессам, уменьшая, таким образом, агрессию, направленную вовне. Как и ожидалось, мы обнаружили, что во всех выборках экстернализация вины опосредовала отношения между склонностью к стыду и вербальной и физической агрессией.С другой стороны, предрасположенность к вине продолжала демонстрировать прямую обратную связь с агрессией в трех из четырех выборок. Кроме того, связь между виной и низкой агрессией была частично опосредована через ориентированное на других сочувствие и склонность брать на себя ответственность.
Короче говоря, стыд и гнев идут рука об руку. Отчаявшись избежать болезненного чувства стыда, опозоренные люди склонны перевернуть стол в оборонительном порядке, выдавая вину и гнев извне на удобного козла отпущения.Обвинение других может помочь людям вернуть чувство контроля и превосходства в своей жизни, но в долгосрочной перспективе это часто обходится дорого. Друзья, коллеги и близкие склонны отчуждаться из-за стиля межличностного общения, характеризующегося иррациональными вспышками гнева.
Психологические симптомы
При рассмотрении области социального поведения и межличностной адаптации эмпирические исследования показывают, что вина, в целом, является более нравственной или адаптивной эмоцией. Вина, по-видимому, мотивирует репаративные действия, способствует сочувствию, ориентированному на других, и способствует конструктивным стратегиям совладания с гневом.Но есть ли внутриличностные или внутрипсихические издержки для тех людей, которые склонны испытывать чувство вины? Приводит ли склонность к вине к тревоге, депрессии и / или потере самооценки? И наоборот, разве стыд, возможно, менее проблематичен для внутриличностной адаптации, чем для межличностной адаптации?
В случае стыда ответ ясен. Исследования последних двух десятилетий неизменно показывают, что склонность к стыду связана с широким спектром психологических симптомов. Они варьируются от низкой самооценки, депрессии и беспокойства до симптомов расстройства пищевого поведения, посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и суицидальных мыслей (Andrews et al.2000, Эшби и др. 2006 г., Брюин и др. 2000, Crossley & Rockett 2005, Feiring & Taska 2005, Feiring et al. 2002 г., Фергюсон и др. 2000, Ghatavi et al. 2002, Харпер и Ариас 2004, Хендерсон и Зимбардо 2001, Лескела и др. 2002, Mills 2003, Murray et al. 2000, Орсилло и др. 1996 г., Sanftner et al. 1995 г., Стювиг и Макклоски, 2005 г .; см. также обзор в Tangney & Dearing 2002). Негативные психологические последствия стыда очевидны для разных методов измерения, разных возрастных групп и групп населения.Как клиническая литература, так и эмпирические исследования согласны с тем, что люди, часто испытывающие чувство стыда за себя, соответственно, более уязвимы перед целым рядом психологических проблем.
Хотя традиционная точка зрения состоит в том, что вина играет важную роль в психологических симптомах, эмпирические результаты были более двусмысленными. Клиническая теория и тематические исследования часто ссылаются на неадаптивную вину, характеризующуюся хроническим самообвинением и навязчивыми размышлениями о своих проступках (Blatt 1974, Ellis 1962, Freud 1924/1961, Hartmann & Loewenstein 1962, Rodin et al.1984, Weiss 1993). Однако недавно теоретики и исследователи подчеркнули адаптивные функции вины, особенно в отношении межличностного поведения (Baumeister et al. 1994, 1995a; Hoffman 1982; Tangney 1991, 1994, 1995b; Tangney et al. 1992; Tangney & Dearing 2002).
Пытаясь согласовать эти точки зрения, Тангни (1996) утверждал, что более ранние работы не учитывали различие между виной и стыдом. Как только человек воспринимает вину как отрицательную эмоцию в ответ на конкретную неудачу или проступок, нет веских причин ожидать, что вина будет связана с плохой психологической адаптацией.Напротив, чувство вины, скорее всего, будет дезадаптивным, когда оно сольется со стыдом. Преимущества вины теряются, когда переживание вины человека («О, посмотрите, что за ужасная вещь , , я сделал , ») усиливается и обобщается на его личность («… , а я ужасный »). человек ”). В конечном счете, проблема заключается в компоненте стыда, а не в компоненте вины, поскольку человек испытывает чувство презрения и отвращения к плохому, дефектному «я».
Более того, такое болезненное чувство стыда трудно преодолеть. Стыд — и смешанная со стыдом вина — предлагают мало возможностей для искупления. Преобразовать «я», дефектное по своей сути, — непростая задача. Таким образом, чувство вины с наложением стыда, скорее всего, является источником болезненного самобичевания и размышлений, так часто описываемых в клинической литературе. Напротив, обычно существует множество путей к искуплению в случае несложного чувства вины, сосредоточенного на конкретном поведении.Человек ( на ) часто имеет возможность изменить нежелательное поведение; ( b ) или, что еще лучше, имеет возможность устранить негативные последствия; ( c ) или, по крайней мере, может принести искренние извинения. И когда невозможно внести эти внешние поправки, можно решить поступить лучше в будущем.
В соответствии с этим концептуальным анализом, эмпирические исследования, которые не принимают во внимание различие между стыдом и виной или которые используют прилагательные контрольный список (и другие глобальные формулировки) меры, которые плохо подходят для различия между стыдом и виной, сообщают что предрасположенность к вине связана с психологическими симптомами (Boye et al.2002, Fontana & Rosenbeck 2004, Ghatavi et al. 2002, Harder 1995, Jones & Kugler 1993, Meehan et al. 1996). Например, используя опросник межличностной вины (O’Connor et al. 1997), Бергольд и Локк (2002) обнаружили, что только шкала вины «ненависти к себе» различает контрольную группу и подростков с диагнозом нервной анорексии. (Авторы пришли к выводу, что на самом деле стыд, а не вина, более важен для клинического понимания этого расстройства пищевого поведения.) конкретное поведение (например,g., основанные на сценариях методы оценки стыда и вины применительно к конкретным ситуациям) показывают, что склонность испытывать «свободную от стыда» вину по существу не связана с психологическими симптомами. Многочисленные независимые исследования сходятся во мнении: склонные к вине дети, подростки и взрослые не подвержены повышенному риску депрессии, беспокойства, низкой самооценки и т. Д. (Gramzow & Tangney 1992; Leskela et al. 2002; McLaughlin 2002; Quiles & Bybee 1997 ; Schaefer 2000; Stuewig & McCloskey 2005; Tangney 1994; Tangney & Dearing 2002; Tangney et al.1991, 1992, 1995).
Тем не менее, стоит отметить, что в большинстве сценариев оценки стыда и вины (включая Тест на самосознание, или TOSCA), большинство ситуаций относительно неоднозначны в отношении ответственности или виновности. Для ситуаций с отрицательной валентностью (но не с положительной валентностью) респондентов просят представить события, в которых они явно потерпели неудачу или каким-то образом нарушили их. Проблемы могут возникать, когда у людей развивается преувеличенное или искаженное чувство ответственности за события, которые находятся вне их контроля или в которые они не имеют личного участия (Ferguson et al.2000, Tangney & Dearing 2002, Zahn-Waxler & Robinson 1995). Вина пережившего — яркий пример такой проблемной реакции вины, которая постоянно связана с психологической дезадаптацией (Кубани и др., 1995, 2004; О’Коннор и др., 2002). В экспериментальном исследовании детей младшего школьного возраста Ferguson et al. (2000) варьировали степень неоднозначности ситуаций в рамках основанной на сценарии меры в отношении ответственности. Они обнаружили положительную взаимосвязь между интернализирующими симптомами (например,ж., депрессия) и склонность к вине особенно в ситуациях, когда ответственность была неоднозначной.
Короче говоря, преимущества вины очевидны, когда люди признают свои неудачи и проступки и берут на себя соответствующую ответственность за свои проступки. В таких ситуациях межличностная выгода от чувства вины, по-видимому, не обходится человеку дорого. Склонность испытывать «свободную от стыда» вину в ответ на явные проступки, как правило, не связана с психологическими проблемами, тогда как стыд неизменно ассоциируется с дезадаптивными процессами и результатами на нескольких уровнях.
Связь моральных эмоций с рискованным, незаконным и нежелательным поведением
Поскольку стыд и вина являются болезненными эмоциями, часто предполагается, что они побуждают людей избегать неправильных поступков. С этой точки зрения ожидаемые стыд и вина должны снизить вероятность проступка и нарушения правил поведения. Но что именно показывают данные?
Эмпирические исследования различных выборок с использованием ряда критериев ясно показывают, что предрасположенность к вине обратно пропорциональна антиобщественному и рискованному поведению.В исследовании студентов колледжей (Tangney, 1994) предрасположенность к вине ассоциировалась с одобрением таких вещей, как «Я бы не украл то, что мне было нужно, даже если бы я был уверен, что мне это сойдет с рук». Точно так же Тиббетс (2003) обнаружил, что предрасположенность студентов колледжа к вине обратно пропорциональна их преступной деятельности, о которой они сообщают сами. Среди подростков склонность к свободному от стыда чувству вины отрицательно коррелировала с правонарушением (Merisca & Bybee 1994, Stuewig & McCloskey 2005; хотя Ferguson et al.1999 обнаружил отрицательную связь между предрасположенностью к вине и проявлением симптомов у мальчиков, противоположное верно для девочек). Моральные эмоции, по-видимому, хорошо укоренились в среднем детстве и будут влиять на моральное поведение на долгие годы (Tangney & Dearing 2002). Дети, склонные к бесстыдному чувству вины в пятом классе, в подростковом возрасте реже подвергались аресту, осуждению и тюремному заключению. Они с большей вероятностью практиковали безопасный секс и реже злоупотребляли наркотиками.Важно отметить, что эти результаты действовали при контроле семейного дохода и образования матерей. Учащиеся колледжей, склонные к чувству вины, также реже злоупотребляют наркотиками и алкоголем (Dearing et al. 2005). Даже среди взрослых, уже находящихся в группе высокого риска, чувство вины, по-видимому, выполняет защитную функцию. В продольном исследовании заключенных тюрьмы, предрасположенность к вине, оцененная вскоре после заключения, негативно предсказывала рецидивизм и злоупотребление психоактивными веществами в течение первого года после освобождения (Tangney et al. 2006).
Картина результатов для стыда совершенно иная, практически нет доказательств, подтверждающих предполагаемую адаптивную природу стыда.В исследованиях детей, подростков, студентов колледжей и сокамерников стыд, по-видимому, не выполняет те же тормозящие функции, что и вина (Dearing et al. 2005, Stuewig & McCloskey 2005, Tangney et al. 1996b). Напротив, исследования показывают, что стыд может даже ухудшить положение. В исследовании детей Ferguson et al. (1999) обнаружили, что предрасположенность к стыду положительно коррелирует с внешними симптомами в Контрольном списке поведения детей. На выборке студентов колледжа Тиббетс (1997) обнаружил положительную взаимосвязь между склонностью к стыду и намерениями противозаконного поведения.Предрасположенность к стыду, оцененная в пятом классе, предсказывала более позднее рискованное поведение при вождении, более раннее начало употребления наркотиков и алкоголя и более низкую вероятность практики безопасного секса (Tangney & Dearing 2002). Точно так же склонность к проблемному чувству стыда была положительно связана с употреблением психоактивных веществ и злоупотреблением ими в зрелом возрасте (Dearing et al. 2005, Meehan et al. 1996, O’Connor et al. 1994, Tangney et al. 2006).
Дифференциальная связь стыда и вины с моральным поведением не может распространяться на все группы населения по отношению ко всем видам поведения.Харрис (2003) оценил опыт стыда и вины среди лиц, управляющих транспортным средством в нетрезвом виде, после их появления в суде или на конференции по восстановительному правосудию. В отличие от большинства дошедших до нас исследований, Харрис не обнаружил доказательств того, что стыд и вина являются отдельными факторами. Важно отметить, что это исследование было сосредоточено на уникальной однородной выборке (осужденные водители в нетрезвом виде, многие из которых имеют проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами) и на одном типе правонарушений. Открытия Харриса поднимают интригующую возможность того, что люди с проблемами злоупотребления психоактивными веществами могут не иметь четко дифференцированных переживаний стыда и вины.С другой стороны, чувство вины и сопутствующее ей эмпатическое сосредоточение на пострадавшем другом могут быть менее значимыми для проступков, таких как вождение в нетрезвом виде, которые обычно не приводят к объективному физическому ущербу для других. (То есть масштабы последствий автомобильной аварии потенциально огромны, тогда как вероятность ее возникновения в каждом конкретном случае довольно мала. Большинство преступников, управляющих автомобилем в нетрезвом виде, арестовываются за неуравновешенное вождение, а не на месте аварии с фактическим участием причинение вреда другому человеку.)
В итоге, эмпирические результаты сходятся, показывая, что чувство вины, но не стыда, является наиболее эффективным средством мотивации людей к выбору нравственного пути в жизни. Способность чувствовать вину более склонна к формированию модели морального поведения на протяжении всей жизни, мотивируя людей брать на себя ответственность и принимать меры по исправлению положения после случайных неудач или проступков. Напротив, исследования связывают стыд с целым рядом незаконных, рискованных или других проблемных видов поведения. Таким образом, при рассмотрении благополучия человека, его или ее близких отношений или общества чувство вины представляет собой нравственную эмоцию выбора.
Моральные эмоции и нравственное поведение
Подавляющее большинство исследований моральных эмоций сосредоточено на двух негативно оцененных, застенчивых эмоциях — стыде и вине. Многие люди, включая врачей, исследователей и простых людей, используют термин «стыд» »И« вина »- синонимы. Тем не менее, на протяжении многих лет было предпринято несколько попыток провести различие между стыдом и виной.
В чем разница между стыдом и виной?
Попытки провести различие между стыдом и виной делятся на три категории: ( a ) различие, основанное на типах вызывающих событий, ( b ) различие, основанное на публичном и частном характере преступления, и ( c ) различие, основанное на степени, в которой человек истолковывает вызывающее эмоции событие как неудачу в себе или поведении.
Исследования показывают, что тип событий на удивление мало связан с различием между стыдом и виной. Анализ личного опыта стыда и вины, предоставленный детьми и взрослыми, выявил несколько, если вообще имелись, «классических» ситуаций, вызывающих стыд или вину (Keltner & Buswell 1996, Tangney 1992, Tangney et al. 1994, Tracy & Robins 2006). Большинство типов событий (например, ложь, обман, воровство, отказ помочь другому, непослушание родителям) цитируются одними людьми в связи с чувством стыда, а другие — в связи с чувством вины.Некоторые исследователи утверждают, что стыд вызывается более широким кругом ситуаций, включая как моральные, так и неморальные неудачи и проступки, тогда как вина более конкретно связана с проступками в моральной сфере (Ferguson et al.1991, Sabini & Silver 1997, Smith et al. 2002). На наш взгляд (Tangney et al., 2006b), как и вина его брата и сестры, стыд квалифицируется как преимущественно моральная эмоция, если выйти за рамки узкого концептуального представления области морали с точки зрения этики автономии (Shweder et al.1997). Из этики морали «большой тройки» — автономии, сообщества и божественности (Shweder et al. 1997) — стыд может быть более тесно связан с нарушениями этики сообщества (например, нарушения общественного порядка) и божественности (например, , действия, которые напоминают нам о нашей животной природе), но нарушения определенной этики не имеют однозначного соответствия конкретным ситуациям или событиям. Как показали Shweder et al. (1997), большинство неудач и нарушений воспринимаются как относящиеся к сочетанию моральной этики.Короче говоря, с этой более широкой культурной точки зрения стыд и вина — это эмоции, каждая из которых в первую очередь вызвана моральными упущениями.
Другое часто упоминаемое различие между стыдом и виной сосредоточено на публичном и частном характере нарушений (например, Benedict 1946). С этой точки зрения стыд рассматривается как более «публичная» эмоция, возникающая в результате публичного разоблачения и неодобрения некоторых недостатков или нарушений. С другой стороны, вина понимается как более «личное» переживание, возникающее из самопроизвольных угрызений совести.Как оказалось, эмпирические исследования не смогли подтвердить это различие между общественным и частным с точки зрения фактической структуры ситуации, вызывающей эмоции (Tangney et al. 1994, 1996a). Например, систематический анализ социального контекста личных событий, вызывающих стыд и чувство вины, описанных несколькими сотнями детей и взрослых (Tangney et al. 1994), показал, что стыд и вина с одинаковой вероятностью могут испытываться в присутствии других. Одиночные переживания стыда были столь же обычны, как и переживания одиночной вины.Что еще более важно, частота, с которой другие узнавали о поведении респондентов, не менялась в зависимости от стыда и вины, что прямо противоречит различию между общественным и частным. Точно так же, изучая личные эмоциональные рассказы, Трейси и Робинс (2006) обнаружили, что по сравнению с чувством вины стыд несколько чаще вызывался событиями достижений и личными событиями, каждое из которых является более частным, чем события в отношениях и в семье.
Откуда взялось представление о том, что стыд — это более публичная эмоция? Хотя ситуации, вызывающие стыд и чувство вины, одинаково публичны (с точки зрения вероятности того, что другие присутствуют и знают о неудаче или проступке) и в равной степени могут включать межличностные проблемы, по всей видимости, существуют систематические различия в природе этих межличностных проблем. .Tangney et al. (1994) обнаружили, что при описании ситуаций, вызывающих стыд, респонденты больше беспокоились о том, как другие оценивают себя. Напротив, при описании переживаний вины респондентов больше беспокоило их влияние на других. Это различие между «эгоцентрическими» и «ориентированными на других» проблемами неудивительно, учитывая, что стыд предполагает сосредоточение на себе, тогда как вина относится к определенному поведению. Опозоренный человек, который сосредоточен на отрицательной самооценке, естественно, будет обеспокоен оценками других.Это небольшой прыжок от размышлений о том, какой ты ужасный человек, к размышлениям о том, как тебя могут оценивать другие. С другой стороны, человек, испытывающий чувство вины, уже относительно «децентрализован» — сосредотачивается на негативном поведении, несколько отличном от себя. Сосредоточившись на плохом поведении, а не на плохом себе, человек, переживающий переживание вины, с большей вероятностью осознает (и будет беспокоиться) о влиянии этого поведения на других, а не на их оценки. В нескольких последующих исследованиях (Smith et al.2002) предоставляют достаточно доказательств того, что стыд связан с такими опасениями. Например, участники, призванные сосредоточиться на публичном разоблачении морального проступка, приписывали равные уровни стыда и вины главным героям рассказов, но когда публичное и личное измерение не выделялось, участники приписывали меньше стыда (вина была одинаково высокой в зависимости от условий). Однако вместе взятые выводы Смита и др. Согласуются с представлением о том, что люди сосредотачиваются на оценках других, потому что они чувствуют стыд, а не наоборот.Когда участников попросили подумать о ситуации, в которой они чувствовали себя плохо из-за того, что их подчиненный аспект « был раскрыт или публично раскрыл другому человеку или другим людям» (стр. 154; курсив добавлен), большинство описали спонтанно. возникшее чувство стыда — только 6,7% определили это чувство как стыд (вдвое больше опрошенных определили это чувство как вину). Точно так же и в моральном состоянии (плохое самочувствие из-за того, что «что-то не так» было разоблачено) модальным эмоциональным термином было смущение — в три раза чаще, чем стыд (который был не чаще, чем вина).Короче говоря, испытывая стыд, люди могут чувствовать себя более уязвимыми — лучше осознавать неодобрение других — но в действительности ситуации, вызывающие как стыд, так и вину, обычно носят социальный характер. Чаще всего наши ошибки и проступки не ускользают от внимания других.
В настоящее время наиболее доминирующая основа для различения стыда и вины — сосредоточение внимания на себе и на поведении — была впервые предложена Хелен Блок Льюис (1971), а позднее разработана оценочной моделью самосознательных эмоций Трейси и Робинс (2004a). .Согласно Льюису (1971), стыд предполагает негативную оценку глобального «я»; вина предполагает отрицательную оценку конкретного поведения. Хотя это различие на первый взгляд может показаться довольно тонким, эмпирические исследования подтверждают, что этот дифференцированный акцент на себя (« Я сделал эту ужасную вещь») по сравнению с поведением («Я сделал эту ужасную вещь ») устанавливает сцена для очень разных эмоциональных переживаний и очень разных моделей мотивации и последующего поведения.
И стыд, и вина являются отрицательными эмоциями и, как таковые, могут вызывать интрапсихическую боль. Тем не менее стыд считается более болезненной эмоцией, потому что на карту поставлено не просто поведение, а сущность человека. Чувство стыда обычно сопровождается ощущением сжатия или «маленького размера», а также чувством никчемности и беспомощности. Опозоренные люди тоже чувствуют себя незащищенными. Хотя стыд не обязательно подразумевает реальную наблюдающую аудиторию, присутствующую для того, чтобы засвидетельствовать свои недостатки, часто возникают образы того, как дефектное «я» могло бы показаться другим.Льюис (1971) описал раскол в самофункционировании, при котором «я» является одновременно агентом и объектом наблюдения и неодобрения. С другой стороны, вина, как правило, является менее разрушительным и менее болезненным переживанием, потому что объектом осуждения является конкретное поведение, а не все я. Вместо того, чтобы защищать обнаженную суть своей личности, люди, испытывающие муки вины, вынуждены задуматься о своем поведении и его последствиях. Такая концентрация приводит к напряжению, угрызениям совести и сожалениям о «плохом поступке».
Эмпирическое подтверждение разграничения стыда и вины Льюисом (1971) исходит из ряда экспериментальных и корреляционных исследований с использованием ряда методов, включая качественный анализ конкретных случаев, анализ содержания рассказов о стыде и вине, количественные оценки личного стыда участниками. и переживания вины, анализ атрибуции, связанной со стыдом и виной, и анализ контрфактического мышления участников (обзор см. в Tangney & Dearing 2002).Например, совсем недавно Трейси и Робинс (2006) использовали как экспериментальные, так и корреляционные методы, показывающие, что внутренние, стабильные, неконтролируемые приписывания неудач положительно связаны со стыдом, тогда как внутренние, нестабильные, контролируемые приписывания неудач положительно связаны с чувством вины.
Стыд и вина — это не одинаково «моральные» эмоции
Одна из постоянных тем, вытекающих из эмпирических исследований, заключается в том, что стыд и вина не являются в равной степени «моральными» эмоциями.В целом вина кажется более адаптивной эмоцией, приносящей пользу отдельным людям и их отношениям различными способами (Baumeister et al.1994, 1995a, b; Tangney 1991, 1995a, b), но появляется все больше свидетельств того, что стыд — это моральные эмоции, которые легко могут пойти наперекосяк (Tangney 1991, 1995a, b; Tangney et al. 1996b).
В этом разделе мы суммируем исследования в пяти областях, которые иллюстрируют адаптивные функции вины в отличие от скрытых издержек стыда. В частности, мы сосредотачиваемся на дифференциальной взаимосвязи стыда и вины с мотивацией (сокрытие или исправление), сопереживания, ориентированного на других, гнева и агрессии, психологических симптомов и сдерживания проступка и другого рискованного, социально нежелательного поведения.
Сокрытие и исправление
Исследования неизменно показывают, что стыд и вина приводят к противоположным мотивам или «тенденциям к действию» (Ketelaar & Au 2003, Lewis 1971, Lindsay-Hartz 1984, Tangney 1993, Tangney et al. 1996a, Wallbott & Scherer 1995 , Wicker et al., 1983). С одной стороны, стыд соответствует попыткам отрицать, скрыть или избежать вызывающей стыд ситуации. Физиологические исследования связывают переживание стыда с повышенным уровнем провоспалительных цитокинов и кортизола (Dickerson et al.2004a), которые могут вызывать постуральные признаки почтения и самопрятности (см. Новые направления в исследованиях стыда и вины: физиологические корреляты стыда). С другой стороны, вина соответствует репаративным действиям, включая признания, извинения и устранение последствий поведения. В целом, эмпирические данные, оценивающие склонность к действиям людей, испытывающих стыд и вину, позволяют предположить, что чувство вины способствует конструктивным, проактивным занятиям, тогда как стыд способствует защите, межличностному разделению и дистанцированию.
Сочувствие, ориентированное на других, против самоориентированного дистресса
Во-вторых, стыд и вина по-разному связаны с сочувствием. В частности, вина идет рука об руку с сочувствием, ориентированным на других. Напротив, чувство стыда, по-видимому, нарушает способность людей формировать эмпатические связи с другими. Это различное отношение стыда и вины к сочувствию проявляется как на уровне эмоциональной предрасположенности, так и на уровне эмоционального состояния. Исследования эмоциональных предрасположенностей (Joireman 2004; Leith & Baumeister 1998; Tangney 1991, 1995b; Tangney & Dearing 2002) демонстрируют, что предрасположенность к вине постоянно коррелирует с показателями перспективного взгляда и сочувствия.Напротив, предрасположенность к стыду (в зависимости от метода оценки) отрицательно или пренебрежимо коррелирует с эмпатией, ориентированной на других, и положительно связана со склонностью эгоцентрически сосредотачиваться на собственном бедствии. Подобные результаты возникают при исследовании эмоциональных состояний — чувства стыда и вины «в данный момент». При описании личного опыта вины люди выражают большее сочувствие другим, чем при описании опыта стыда (Leith & Baumeister 1998, Tangney et al. 1994). Маршалл (1996) обнаружил, что люди, испытывающие чувство стыда, впоследствии меньше сочувствовали учащимся-инвалидам, особенно среди людей с низкой склонностью к стыду.
Почему стыд, но не вина, может мешать сочувствию, ориентированному на других? По сути своей эгоцентрическая направленность стыда на «плохое я» (в отличие от плохого поведения) подрывает эмпатический процесс. Люди, находящиеся в агонии стыда, плотно обращаются внутрь и, таким образом, менее способны сосредоточить когнитивные и эмоциональные ресурсы на пострадавшем другом (Tangney et al. 1994). Напротив, люди, испытывающие чувство вины, специально сосредоточены на плохом поведении, которое, в свою очередь, подчеркивает негативные последствия, испытываемые другими, тем самым стимулируя эмпатическую реакцию и мотивируя людей «исправить ошибку».
Конструктивная и деструктивная реакции на гнев
В-третьих, исследования указывают на прочную связь между стыдом и гневом, которая снова наблюдается как на уровне предрасположенности, так и на уровне государства. В своих более ранних клинических исследованиях Хелен Блок Льюис (1971) наблюдала особую динамику между стыдом и гневом (или униженной яростью), отметив, что чувство стыда клиентов часто предшествовало проявлениям гнева и враждебности в терапевтической комнате. Более поздние эмпирические исследования подтвердили ее утверждение.У людей всех возрастов склонность к стыду положительно коррелирует с гневом, враждебностью и склонностью винить в своих несчастьях факторы, не связанные с самим собой (Andrews et al.2000, Bennett et al.2005, Harper & Arias 2004, Paulhus et al. al.2004, Tangney & Dearing 2002).
Фактически, по сравнению с теми, кто не склонен к стыду, склонные к стыду люди с большей вероятностью будут участвовать в экстернализации вины, испытывать сильный гнев и выражать этот гнев деструктивными способами, включая прямую физическую, словесную и символическую агрессию. , косвенная агрессия (напр.g., причинение вреда чему-то важному для цели, разговор за спиной цели), всевозможные вытесненные агрессии, самонаправленная агрессия и сдерживаемый гнев (невыраженный гнев в задумчивости). Наконец, люди, склонные к стыду, сообщают, что осознают, что их гнев обычно приводит к негативным долгосрочным последствиям как для них самих, так и для их отношений с другими.
Склонность к вине, напротив, неизменно ассоциируется с более конструктивным сочетанием эмоций, познаний и поведения.Например, склонность к «свободной от стыда» вине положительно коррелирует с конструктивными намерениями после проступка и последующим конструктивным поведением (например, без враждебного обсуждения, прямого корректирующего действия). По сравнению со своими сверстниками, склонными к вине, люди с меньшей вероятностью будут проявлять прямую, косвенную или вытесненную агрессию, когда злятся. И они сообщают о положительных долгосрочных последствиях своего гнева (Tangney et al. 1996a). В соответствии с этими выводами, Harper et al.(2005) недавно оценили связь между склонностью к стыду и совершением психологического насилия в отношениях на свиданиях гетеросексуальными мужчинами из колледжа. Склонность к стыду в значительной степени коррелировала с совершением психологического насилия, а мужской гнев опосредовал эти отношения.
Стыд и гнев также связаны на ситуационном уровне (Tangney et al. 1996a, Wicker et al. 1983). Например, в исследовании эпизодов гнева среди романтически вовлеченных пар, опозоренные партнеры были значительно более злыми, с большей вероятностью участвовали в агрессивном поведении и с меньшей вероятностью вызывали примирительное поведение со стороны совершившего преступление второй половинки (Tangney 1995b).Взятые вместе, результаты представляют собой мощный эмпирический пример спирали стыда-гнева, описанной Льюисом (1971) и Шеффом (1987), с ( a ) стыда партнера, ведущего к чувству гнева ( b ) и деструктивному возмездию. , ( c ), который затем вызывает гнев и негодование в преступнике, ( d ), а также выражения вины и возмездия в натуре ( e ), которые затем могут еще больше опозорить первоначально опозоренного партнера. и т. д. — без конструктивного решения.
Недавно Stuewig et al. (2006) исследовали посредников связи между моральными эмоциями и агрессией на четырех выборках. Мы предположили, что негативные чувства, связанные со стыдом, приводят к экстернализации вины, что, в свою очередь, заставляет склонных к стыду людей реагировать агрессивно. С другой стороны, чувство вины должно способствовать эмпатическим процессам, уменьшая, таким образом, агрессию, направленную вовне. Как и ожидалось, мы обнаружили, что во всех выборках экстернализация вины опосредовала отношения между склонностью к стыду и вербальной и физической агрессией.С другой стороны, предрасположенность к вине продолжала демонстрировать прямую обратную связь с агрессией в трех из четырех выборок. Кроме того, связь между виной и низкой агрессией была частично опосредована через ориентированное на других сочувствие и склонность брать на себя ответственность.
Короче говоря, стыд и гнев идут рука об руку. Отчаявшись избежать болезненного чувства стыда, опозоренные люди склонны перевернуть стол в оборонительном порядке, выдавая вину и гнев извне на удобного козла отпущения.Обвинение других может помочь людям вернуть чувство контроля и превосходства в своей жизни, но в долгосрочной перспективе это часто обходится дорого. Друзья, коллеги и близкие склонны отчуждаться из-за стиля межличностного общения, характеризующегося иррациональными вспышками гнева.
Психологические симптомы
При рассмотрении области социального поведения и межличностной адаптации эмпирические исследования показывают, что вина, в целом, является более нравственной или адаптивной эмоцией. Вина, по-видимому, мотивирует репаративные действия, способствует сочувствию, ориентированному на других, и способствует конструктивным стратегиям совладания с гневом.Но есть ли внутриличностные или внутрипсихические издержки для тех людей, которые склонны испытывать чувство вины? Приводит ли склонность к вине к тревоге, депрессии и / или потере самооценки? И наоборот, разве стыд, возможно, менее проблематичен для внутриличностной адаптации, чем для межличностной адаптации?
В случае стыда ответ ясен. Исследования последних двух десятилетий неизменно показывают, что склонность к стыду связана с широким спектром психологических симптомов. Они варьируются от низкой самооценки, депрессии и беспокойства до симптомов расстройства пищевого поведения, посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и суицидальных мыслей (Andrews et al.2000, Эшби и др. 2006 г., Брюин и др. 2000, Crossley & Rockett 2005, Feiring & Taska 2005, Feiring et al. 2002 г., Фергюсон и др. 2000, Ghatavi et al. 2002, Харпер и Ариас 2004, Хендерсон и Зимбардо 2001, Лескела и др. 2002, Mills 2003, Murray et al. 2000, Орсилло и др. 1996 г., Sanftner et al. 1995 г., Стювиг и Макклоски, 2005 г .; см. также обзор в Tangney & Dearing 2002). Негативные психологические последствия стыда очевидны для разных методов измерения, разных возрастных групп и групп населения.Как клиническая литература, так и эмпирические исследования согласны с тем, что люди, часто испытывающие чувство стыда за себя, соответственно, более уязвимы перед целым рядом психологических проблем.
Хотя традиционная точка зрения состоит в том, что вина играет важную роль в психологических симптомах, эмпирические результаты были более двусмысленными. Клиническая теория и тематические исследования часто ссылаются на неадаптивную вину, характеризующуюся хроническим самообвинением и навязчивыми размышлениями о своих проступках (Blatt 1974, Ellis 1962, Freud 1924/1961, Hartmann & Loewenstein 1962, Rodin et al.1984, Weiss 1993). Однако недавно теоретики и исследователи подчеркнули адаптивные функции вины, особенно в отношении межличностного поведения (Baumeister et al. 1994, 1995a; Hoffman 1982; Tangney 1991, 1994, 1995b; Tangney et al. 1992; Tangney & Dearing 2002).
Пытаясь согласовать эти точки зрения, Тангни (1996) утверждал, что более ранние работы не учитывали различие между виной и стыдом. Как только человек воспринимает вину как отрицательную эмоцию в ответ на конкретную неудачу или проступок, нет веских причин ожидать, что вина будет связана с плохой психологической адаптацией.Напротив, чувство вины, скорее всего, будет дезадаптивным, когда оно сольется со стыдом. Преимущества вины теряются, когда переживание вины человека («О, посмотрите, что за ужасная вещь , , я сделал , ») усиливается и обобщается на его личность («… , а я ужасный »). человек ”). В конечном счете, проблема заключается в компоненте стыда, а не в компоненте вины, поскольку человек испытывает чувство презрения и отвращения к плохому, дефектному «я».
Более того, такое болезненное чувство стыда трудно преодолеть. Стыд — и смешанная со стыдом вина — предлагают мало возможностей для искупления. Преобразовать «я», дефектное по своей сути, — непростая задача. Таким образом, чувство вины с наложением стыда, скорее всего, является источником болезненного самобичевания и размышлений, так часто описываемых в клинической литературе. Напротив, обычно существует множество путей к искуплению в случае несложного чувства вины, сосредоточенного на конкретном поведении.Человек ( на ) часто имеет возможность изменить нежелательное поведение; ( b ) или, что еще лучше, имеет возможность устранить негативные последствия; ( c ) или, по крайней мере, может принести искренние извинения. И когда невозможно внести эти внешние поправки, можно решить поступить лучше в будущем.
В соответствии с этим концептуальным анализом, эмпирические исследования, которые не принимают во внимание различие между стыдом и виной или которые используют прилагательные контрольный список (и другие глобальные формулировки) меры, которые плохо подходят для различия между стыдом и виной, сообщают что предрасположенность к вине связана с психологическими симптомами (Boye et al.2002, Fontana & Rosenbeck 2004, Ghatavi et al. 2002, Harder 1995, Jones & Kugler 1993, Meehan et al. 1996). Например, используя опросник межличностной вины (O’Connor et al. 1997), Бергольд и Локк (2002) обнаружили, что только шкала вины «ненависти к себе» различает контрольную группу и подростков с диагнозом нервной анорексии. (Авторы пришли к выводу, что на самом деле стыд, а не вина, более важен для клинического понимания этого расстройства пищевого поведения.) конкретное поведение (например,g., основанные на сценариях методы оценки стыда и вины применительно к конкретным ситуациям) показывают, что склонность испытывать «свободную от стыда» вину по существу не связана с психологическими симптомами. Многочисленные независимые исследования сходятся во мнении: склонные к вине дети, подростки и взрослые не подвержены повышенному риску депрессии, беспокойства, низкой самооценки и т. Д. (Gramzow & Tangney 1992; Leskela et al. 2002; McLaughlin 2002; Quiles & Bybee 1997 ; Schaefer 2000; Stuewig & McCloskey 2005; Tangney 1994; Tangney & Dearing 2002; Tangney et al.1991, 1992, 1995).
Тем не менее, стоит отметить, что в большинстве сценариев оценки стыда и вины (включая Тест на самосознание, или TOSCA), большинство ситуаций относительно неоднозначны в отношении ответственности или виновности. Для ситуаций с отрицательной валентностью (но не с положительной валентностью) респондентов просят представить события, в которых они явно потерпели неудачу или каким-то образом нарушили их. Проблемы могут возникать, когда у людей развивается преувеличенное или искаженное чувство ответственности за события, которые находятся вне их контроля или в которые они не имеют личного участия (Ferguson et al.2000, Tangney & Dearing 2002, Zahn-Waxler & Robinson 1995). Вина пережившего — яркий пример такой проблемной реакции вины, которая постоянно связана с психологической дезадаптацией (Кубани и др., 1995, 2004; О’Коннор и др., 2002). В экспериментальном исследовании детей младшего школьного возраста Ferguson et al. (2000) варьировали степень неоднозначности ситуаций в рамках основанной на сценарии меры в отношении ответственности. Они обнаружили положительную взаимосвязь между интернализирующими симптомами (например,ж., депрессия) и склонность к вине особенно в ситуациях, когда ответственность была неоднозначной.
Короче говоря, преимущества вины очевидны, когда люди признают свои неудачи и проступки и берут на себя соответствующую ответственность за свои проступки. В таких ситуациях межличностная выгода от чувства вины, по-видимому, не обходится человеку дорого. Склонность испытывать «свободную от стыда» вину в ответ на явные проступки, как правило, не связана с психологическими проблемами, тогда как стыд неизменно ассоциируется с дезадаптивными процессами и результатами на нескольких уровнях.
Связь моральных эмоций с рискованным, незаконным и нежелательным поведением
Поскольку стыд и вина являются болезненными эмоциями, часто предполагается, что они побуждают людей избегать неправильных поступков. С этой точки зрения ожидаемые стыд и вина должны снизить вероятность проступка и нарушения правил поведения. Но что именно показывают данные?
Эмпирические исследования различных выборок с использованием ряда критериев ясно показывают, что предрасположенность к вине обратно пропорциональна антиобщественному и рискованному поведению.В исследовании студентов колледжей (Tangney, 1994) предрасположенность к вине ассоциировалась с одобрением таких вещей, как «Я бы не украл то, что мне было нужно, даже если бы я был уверен, что мне это сойдет с рук». Точно так же Тиббетс (2003) обнаружил, что предрасположенность студентов колледжа к вине обратно пропорциональна их преступной деятельности, о которой они сообщают сами. Среди подростков склонность к свободному от стыда чувству вины отрицательно коррелировала с правонарушением (Merisca & Bybee 1994, Stuewig & McCloskey 2005; хотя Ferguson et al.1999 обнаружил отрицательную связь между предрасположенностью к вине и проявлением симптомов у мальчиков, противоположное верно для девочек). Моральные эмоции, по-видимому, хорошо укоренились в среднем детстве и будут влиять на моральное поведение на долгие годы (Tangney & Dearing 2002). Дети, склонные к бесстыдному чувству вины в пятом классе, в подростковом возрасте реже подвергались аресту, осуждению и тюремному заключению. Они с большей вероятностью практиковали безопасный секс и реже злоупотребляли наркотиками.Важно отметить, что эти результаты действовали при контроле семейного дохода и образования матерей. Учащиеся колледжей, склонные к чувству вины, также реже злоупотребляют наркотиками и алкоголем (Dearing et al. 2005). Даже среди взрослых, уже находящихся в группе высокого риска, чувство вины, по-видимому, выполняет защитную функцию. В продольном исследовании заключенных тюрьмы, предрасположенность к вине, оцененная вскоре после заключения, негативно предсказывала рецидивизм и злоупотребление психоактивными веществами в течение первого года после освобождения (Tangney et al. 2006).
Картина результатов для стыда совершенно иная, практически нет доказательств, подтверждающих предполагаемую адаптивную природу стыда.В исследованиях детей, подростков, студентов колледжей и сокамерников стыд, по-видимому, не выполняет те же тормозящие функции, что и вина (Dearing et al. 2005, Stuewig & McCloskey 2005, Tangney et al. 1996b). Напротив, исследования показывают, что стыд может даже ухудшить положение. В исследовании детей Ferguson et al. (1999) обнаружили, что предрасположенность к стыду положительно коррелирует с внешними симптомами в Контрольном списке поведения детей. На выборке студентов колледжа Тиббетс (1997) обнаружил положительную взаимосвязь между склонностью к стыду и намерениями противозаконного поведения.Предрасположенность к стыду, оцененная в пятом классе, предсказывала более позднее рискованное поведение при вождении, более раннее начало употребления наркотиков и алкоголя и более низкую вероятность практики безопасного секса (Tangney & Dearing 2002). Точно так же склонность к проблемному чувству стыда была положительно связана с употреблением психоактивных веществ и злоупотреблением ими в зрелом возрасте (Dearing et al. 2005, Meehan et al. 1996, O’Connor et al. 1994, Tangney et al. 2006).
Дифференциальная связь стыда и вины с моральным поведением не может распространяться на все группы населения по отношению ко всем видам поведения.Харрис (2003) оценил опыт стыда и вины среди лиц, управляющих транспортным средством в нетрезвом виде, после их появления в суде или на конференции по восстановительному правосудию. В отличие от большинства дошедших до нас исследований, Харрис не обнаружил доказательств того, что стыд и вина являются отдельными факторами. Важно отметить, что это исследование было сосредоточено на уникальной однородной выборке (осужденные водители в нетрезвом виде, многие из которых имеют проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами) и на одном типе правонарушений. Открытия Харриса поднимают интригующую возможность того, что люди с проблемами злоупотребления психоактивными веществами могут не иметь четко дифференцированных переживаний стыда и вины.С другой стороны, чувство вины и сопутствующее ей эмпатическое сосредоточение на пострадавшем другом могут быть менее значимыми для проступков, таких как вождение в нетрезвом виде, которые обычно не приводят к объективному физическому ущербу для других. (То есть масштабы последствий автомобильной аварии потенциально огромны, тогда как вероятность ее возникновения в каждом конкретном случае довольно мала. Большинство преступников, управляющих автомобилем в нетрезвом виде, арестовываются за неуравновешенное вождение, а не на месте аварии с фактическим участием причинение вреда другому человеку.)
В итоге, эмпирические результаты сходятся, показывая, что чувство вины, но не стыда, является наиболее эффективным средством мотивации людей к выбору нравственного пути в жизни. Способность чувствовать вину более склонна к формированию модели морального поведения на протяжении всей жизни, мотивируя людей брать на себя ответственность и принимать меры по исправлению положения после случайных неудач или проступков. Напротив, исследования связывают стыд с целым рядом незаконных, рискованных или других проблемных видов поведения. Таким образом, при рассмотрении благополучия человека, его или ее близких отношений или общества чувство вины представляет собой нравственную эмоцию выбора.
Моральные эмоции и нравственное поведение
Подавляющее большинство исследований моральных эмоций сосредоточено на двух негативно оцененных, застенчивых эмоциях — стыде и вине. Многие люди, включая врачей, исследователей и простых людей, используют термин «стыд» »И« вина »- синонимы. Тем не менее, на протяжении многих лет было предпринято несколько попыток провести различие между стыдом и виной.
В чем разница между стыдом и виной?
Попытки провести различие между стыдом и виной делятся на три категории: ( a ) различие, основанное на типах вызывающих событий, ( b ) различие, основанное на публичном и частном характере преступления, и ( c ) различие, основанное на степени, в которой человек истолковывает вызывающее эмоции событие как неудачу в себе или поведении.
Исследования показывают, что тип событий на удивление мало связан с различием между стыдом и виной. Анализ личного опыта стыда и вины, предоставленный детьми и взрослыми, выявил несколько, если вообще имелись, «классических» ситуаций, вызывающих стыд или вину (Keltner & Buswell 1996, Tangney 1992, Tangney et al. 1994, Tracy & Robins 2006). Большинство типов событий (например, ложь, обман, воровство, отказ помочь другому, непослушание родителям) цитируются одними людьми в связи с чувством стыда, а другие — в связи с чувством вины.Некоторые исследователи утверждают, что стыд вызывается более широким кругом ситуаций, включая как моральные, так и неморальные неудачи и проступки, тогда как вина более конкретно связана с проступками в моральной сфере (Ferguson et al.1991, Sabini & Silver 1997, Smith et al. 2002). На наш взгляд (Tangney et al., 2006b), как и вина его брата и сестры, стыд квалифицируется как преимущественно моральная эмоция, если выйти за рамки узкого концептуального представления области морали с точки зрения этики автономии (Shweder et al.1997). Из этики морали «большой тройки» — автономии, сообщества и божественности (Shweder et al. 1997) — стыд может быть более тесно связан с нарушениями этики сообщества (например, нарушения общественного порядка) и божественности (например, , действия, которые напоминают нам о нашей животной природе), но нарушения определенной этики не имеют однозначного соответствия конкретным ситуациям или событиям. Как показали Shweder et al. (1997), большинство неудач и нарушений воспринимаются как относящиеся к сочетанию моральной этики.Короче говоря, с этой более широкой культурной точки зрения стыд и вина — это эмоции, каждая из которых в первую очередь вызвана моральными упущениями.
Другое часто упоминаемое различие между стыдом и виной сосредоточено на публичном и частном характере нарушений (например, Benedict 1946). С этой точки зрения стыд рассматривается как более «публичная» эмоция, возникающая в результате публичного разоблачения и неодобрения некоторых недостатков или нарушений. С другой стороны, вина понимается как более «личное» переживание, возникающее из самопроизвольных угрызений совести.Как оказалось, эмпирические исследования не смогли подтвердить это различие между общественным и частным с точки зрения фактической структуры ситуации, вызывающей эмоции (Tangney et al. 1994, 1996a). Например, систематический анализ социального контекста личных событий, вызывающих стыд и чувство вины, описанных несколькими сотнями детей и взрослых (Tangney et al. 1994), показал, что стыд и вина с одинаковой вероятностью могут испытываться в присутствии других. Одиночные переживания стыда были столь же обычны, как и переживания одиночной вины.Что еще более важно, частота, с которой другие узнавали о поведении респондентов, не менялась в зависимости от стыда и вины, что прямо противоречит различию между общественным и частным. Точно так же, изучая личные эмоциональные рассказы, Трейси и Робинс (2006) обнаружили, что по сравнению с чувством вины стыд несколько чаще вызывался событиями достижений и личными событиями, каждое из которых является более частным, чем события в отношениях и в семье.
Откуда взялось представление о том, что стыд — это более публичная эмоция? Хотя ситуации, вызывающие стыд и чувство вины, одинаково публичны (с точки зрения вероятности того, что другие присутствуют и знают о неудаче или проступке) и в равной степени могут включать межличностные проблемы, по всей видимости, существуют систематические различия в природе этих межличностных проблем. .Tangney et al. (1994) обнаружили, что при описании ситуаций, вызывающих стыд, респонденты больше беспокоились о том, как другие оценивают себя. Напротив, при описании переживаний вины респондентов больше беспокоило их влияние на других. Это различие между «эгоцентрическими» и «ориентированными на других» проблемами неудивительно, учитывая, что стыд предполагает сосредоточение на себе, тогда как вина относится к определенному поведению. Опозоренный человек, который сосредоточен на отрицательной самооценке, естественно, будет обеспокоен оценками других.Это небольшой прыжок от размышлений о том, какой ты ужасный человек, к размышлениям о том, как тебя могут оценивать другие. С другой стороны, человек, испытывающий чувство вины, уже относительно «децентрализован» — сосредотачивается на негативном поведении, несколько отличном от себя. Сосредоточившись на плохом поведении, а не на плохом себе, человек, переживающий переживание вины, с большей вероятностью осознает (и будет беспокоиться) о влиянии этого поведения на других, а не на их оценки. В нескольких последующих исследованиях (Smith et al.2002) предоставляют достаточно доказательств того, что стыд связан с такими опасениями. Например, участники, призванные сосредоточиться на публичном разоблачении морального проступка, приписывали равные уровни стыда и вины главным героям рассказов, но когда публичное и личное измерение не выделялось, участники приписывали меньше стыда (вина была одинаково высокой в зависимости от условий). Однако вместе взятые выводы Смита и др. Согласуются с представлением о том, что люди сосредотачиваются на оценках других, потому что они чувствуют стыд, а не наоборот.Когда участников попросили подумать о ситуации, в которой они чувствовали себя плохо из-за того, что их подчиненный аспект « был раскрыт или публично раскрыл другому человеку или другим людям» (стр. 154; курсив добавлен), большинство описали спонтанно. возникшее чувство стыда — только 6,7% определили это чувство как стыд (вдвое больше опрошенных определили это чувство как вину). Точно так же и в моральном состоянии (плохое самочувствие из-за того, что «что-то не так» было разоблачено) модальным эмоциональным термином было смущение — в три раза чаще, чем стыд (который был не чаще, чем вина).Короче говоря, испытывая стыд, люди могут чувствовать себя более уязвимыми — лучше осознавать неодобрение других — но в действительности ситуации, вызывающие как стыд, так и вину, обычно носят социальный характер. Чаще всего наши ошибки и проступки не ускользают от внимания других.
В настоящее время наиболее доминирующая основа для различения стыда и вины — сосредоточение внимания на себе и на поведении — была впервые предложена Хелен Блок Льюис (1971), а позднее разработана оценочной моделью самосознательных эмоций Трейси и Робинс (2004a). .Согласно Льюису (1971), стыд предполагает негативную оценку глобального «я»; вина предполагает отрицательную оценку конкретного поведения. Хотя это различие на первый взгляд может показаться довольно тонким, эмпирические исследования подтверждают, что этот дифференцированный акцент на себя (« Я сделал эту ужасную вещь») по сравнению с поведением («Я сделал эту ужасную вещь ») устанавливает сцена для очень разных эмоциональных переживаний и очень разных моделей мотивации и последующего поведения.
И стыд, и вина являются отрицательными эмоциями и, как таковые, могут вызывать интрапсихическую боль. Тем не менее стыд считается более болезненной эмоцией, потому что на карту поставлено не просто поведение, а сущность человека. Чувство стыда обычно сопровождается ощущением сжатия или «маленького размера», а также чувством никчемности и беспомощности. Опозоренные люди тоже чувствуют себя незащищенными. Хотя стыд не обязательно подразумевает реальную наблюдающую аудиторию, присутствующую для того, чтобы засвидетельствовать свои недостатки, часто возникают образы того, как дефектное «я» могло бы показаться другим.Льюис (1971) описал раскол в самофункционировании, при котором «я» является одновременно агентом и объектом наблюдения и неодобрения. С другой стороны, вина, как правило, является менее разрушительным и менее болезненным переживанием, потому что объектом осуждения является конкретное поведение, а не все я. Вместо того, чтобы защищать обнаженную суть своей личности, люди, испытывающие муки вины, вынуждены задуматься о своем поведении и его последствиях. Такая концентрация приводит к напряжению, угрызениям совести и сожалениям о «плохом поступке».
Эмпирическое подтверждение разграничения стыда и вины Льюисом (1971) исходит из ряда экспериментальных и корреляционных исследований с использованием ряда методов, включая качественный анализ конкретных случаев, анализ содержания рассказов о стыде и вине, количественные оценки личного стыда участниками. и переживания вины, анализ атрибуции, связанной со стыдом и виной, и анализ контрфактического мышления участников (обзор см. в Tangney & Dearing 2002).Например, совсем недавно Трейси и Робинс (2006) использовали как экспериментальные, так и корреляционные методы, показывающие, что внутренние, стабильные, неконтролируемые приписывания неудач положительно связаны со стыдом, тогда как внутренние, нестабильные, контролируемые приписывания неудач положительно связаны с чувством вины.
Стыд и вина — это не одинаково «моральные» эмоции
Одна из постоянных тем, вытекающих из эмпирических исследований, заключается в том, что стыд и вина не являются в равной степени «моральными» эмоциями.В целом вина кажется более адаптивной эмоцией, приносящей пользу отдельным людям и их отношениям различными способами (Baumeister et al.1994, 1995a, b; Tangney 1991, 1995a, b), но появляется все больше свидетельств того, что стыд — это моральные эмоции, которые легко могут пойти наперекосяк (Tangney 1991, 1995a, b; Tangney et al. 1996b).
В этом разделе мы суммируем исследования в пяти областях, которые иллюстрируют адаптивные функции вины в отличие от скрытых издержек стыда. В частности, мы сосредотачиваемся на дифференциальной взаимосвязи стыда и вины с мотивацией (сокрытие или исправление), сопереживания, ориентированного на других, гнева и агрессии, психологических симптомов и сдерживания проступка и другого рискованного, социально нежелательного поведения.
Сокрытие и исправление
Исследования неизменно показывают, что стыд и вина приводят к противоположным мотивам или «тенденциям к действию» (Ketelaar & Au 2003, Lewis 1971, Lindsay-Hartz 1984, Tangney 1993, Tangney et al. 1996a, Wallbott & Scherer 1995 , Wicker et al., 1983). С одной стороны, стыд соответствует попыткам отрицать, скрыть или избежать вызывающей стыд ситуации. Физиологические исследования связывают переживание стыда с повышенным уровнем провоспалительных цитокинов и кортизола (Dickerson et al.2004a), которые могут вызывать постуральные признаки почтения и самопрятности (см. Новые направления в исследованиях стыда и вины: физиологические корреляты стыда). С другой стороны, вина соответствует репаративным действиям, включая признания, извинения и устранение последствий поведения. В целом, эмпирические данные, оценивающие склонность к действиям людей, испытывающих стыд и вину, позволяют предположить, что чувство вины способствует конструктивным, проактивным занятиям, тогда как стыд способствует защите, межличностному разделению и дистанцированию.
Сочувствие, ориентированное на других, против самоориентированного дистресса
Во-вторых, стыд и вина по-разному связаны с сочувствием. В частности, вина идет рука об руку с сочувствием, ориентированным на других. Напротив, чувство стыда, по-видимому, нарушает способность людей формировать эмпатические связи с другими. Это различное отношение стыда и вины к сочувствию проявляется как на уровне эмоциональной предрасположенности, так и на уровне эмоционального состояния. Исследования эмоциональных предрасположенностей (Joireman 2004; Leith & Baumeister 1998; Tangney 1991, 1995b; Tangney & Dearing 2002) демонстрируют, что предрасположенность к вине постоянно коррелирует с показателями перспективного взгляда и сочувствия.Напротив, предрасположенность к стыду (в зависимости от метода оценки) отрицательно или пренебрежимо коррелирует с эмпатией, ориентированной на других, и положительно связана со склонностью эгоцентрически сосредотачиваться на собственном бедствии. Подобные результаты возникают при исследовании эмоциональных состояний — чувства стыда и вины «в данный момент». При описании личного опыта вины люди выражают большее сочувствие другим, чем при описании опыта стыда (Leith & Baumeister 1998, Tangney et al. 1994). Маршалл (1996) обнаружил, что люди, испытывающие чувство стыда, впоследствии меньше сочувствовали учащимся-инвалидам, особенно среди людей с низкой склонностью к стыду.
Почему стыд, но не вина, может мешать сочувствию, ориентированному на других? По сути своей эгоцентрическая направленность стыда на «плохое я» (в отличие от плохого поведения) подрывает эмпатический процесс. Люди, находящиеся в агонии стыда, плотно обращаются внутрь и, таким образом, менее способны сосредоточить когнитивные и эмоциональные ресурсы на пострадавшем другом (Tangney et al. 1994). Напротив, люди, испытывающие чувство вины, специально сосредоточены на плохом поведении, которое, в свою очередь, подчеркивает негативные последствия, испытываемые другими, тем самым стимулируя эмпатическую реакцию и мотивируя людей «исправить ошибку».
Конструктивная и деструктивная реакции на гнев
В-третьих, исследования указывают на прочную связь между стыдом и гневом, которая снова наблюдается как на уровне предрасположенности, так и на уровне государства. В своих более ранних клинических исследованиях Хелен Блок Льюис (1971) наблюдала особую динамику между стыдом и гневом (или униженной яростью), отметив, что чувство стыда клиентов часто предшествовало проявлениям гнева и враждебности в терапевтической комнате. Более поздние эмпирические исследования подтвердили ее утверждение.У людей всех возрастов склонность к стыду положительно коррелирует с гневом, враждебностью и склонностью винить в своих несчастьях факторы, не связанные с самим собой (Andrews et al.2000, Bennett et al.2005, Harper & Arias 2004, Paulhus et al. al.2004, Tangney & Dearing 2002).
Фактически, по сравнению с теми, кто не склонен к стыду, склонные к стыду люди с большей вероятностью будут участвовать в экстернализации вины, испытывать сильный гнев и выражать этот гнев деструктивными способами, включая прямую физическую, словесную и символическую агрессию. , косвенная агрессия (напр.g., причинение вреда чему-то важному для цели, разговор за спиной цели), всевозможные вытесненные агрессии, самонаправленная агрессия и сдерживаемый гнев (невыраженный гнев в задумчивости). Наконец, люди, склонные к стыду, сообщают, что осознают, что их гнев обычно приводит к негативным долгосрочным последствиям как для них самих, так и для их отношений с другими.
Склонность к вине, напротив, неизменно ассоциируется с более конструктивным сочетанием эмоций, познаний и поведения.Например, склонность к «свободной от стыда» вине положительно коррелирует с конструктивными намерениями после проступка и последующим конструктивным поведением (например, без враждебного обсуждения, прямого корректирующего действия). По сравнению со своими сверстниками, склонными к вине, люди с меньшей вероятностью будут проявлять прямую, косвенную или вытесненную агрессию, когда злятся. И они сообщают о положительных долгосрочных последствиях своего гнева (Tangney et al. 1996a). В соответствии с этими выводами, Harper et al.(2005) недавно оценили связь между склонностью к стыду и совершением психологического насилия в отношениях на свиданиях гетеросексуальными мужчинами из колледжа. Склонность к стыду в значительной степени коррелировала с совершением психологического насилия, а мужской гнев опосредовал эти отношения.
Стыд и гнев также связаны на ситуационном уровне (Tangney et al. 1996a, Wicker et al. 1983). Например, в исследовании эпизодов гнева среди романтически вовлеченных пар, опозоренные партнеры были значительно более злыми, с большей вероятностью участвовали в агрессивном поведении и с меньшей вероятностью вызывали примирительное поведение со стороны совершившего преступление второй половинки (Tangney 1995b).Взятые вместе, результаты представляют собой мощный эмпирический пример спирали стыда-гнева, описанной Льюисом (1971) и Шеффом (1987), с ( a ) стыда партнера, ведущего к чувству гнева ( b ) и деструктивному возмездию. , ( c ), который затем вызывает гнев и негодование в преступнике, ( d ), а также выражения вины и возмездия в натуре ( e ), которые затем могут еще больше опозорить первоначально опозоренного партнера. и т. д. — без конструктивного решения.
Недавно Stuewig et al. (2006) исследовали посредников связи между моральными эмоциями и агрессией на четырех выборках. Мы предположили, что негативные чувства, связанные со стыдом, приводят к экстернализации вины, что, в свою очередь, заставляет склонных к стыду людей реагировать агрессивно. С другой стороны, чувство вины должно способствовать эмпатическим процессам, уменьшая, таким образом, агрессию, направленную вовне. Как и ожидалось, мы обнаружили, что во всех выборках экстернализация вины опосредовала отношения между склонностью к стыду и вербальной и физической агрессией.С другой стороны, предрасположенность к вине продолжала демонстрировать прямую обратную связь с агрессией в трех из четырех выборок. Кроме того, связь между виной и низкой агрессией была частично опосредована через ориентированное на других сочувствие и склонность брать на себя ответственность.
Короче говоря, стыд и гнев идут рука об руку. Отчаявшись избежать болезненного чувства стыда, опозоренные люди склонны перевернуть стол в оборонительном порядке, выдавая вину и гнев извне на удобного козла отпущения.Обвинение других может помочь людям вернуть чувство контроля и превосходства в своей жизни, но в долгосрочной перспективе это часто обходится дорого. Друзья, коллеги и близкие склонны отчуждаться из-за стиля межличностного общения, характеризующегося иррациональными вспышками гнева.
Психологические симптомы
При рассмотрении области социального поведения и межличностной адаптации эмпирические исследования показывают, что вина, в целом, является более нравственной или адаптивной эмоцией. Вина, по-видимому, мотивирует репаративные действия, способствует сочувствию, ориентированному на других, и способствует конструктивным стратегиям совладания с гневом.Но есть ли внутриличностные или внутрипсихические издержки для тех людей, которые склонны испытывать чувство вины? Приводит ли склонность к вине к тревоге, депрессии и / или потере самооценки? И наоборот, разве стыд, возможно, менее проблематичен для внутриличностной адаптации, чем для межличностной адаптации?
В случае стыда ответ ясен. Исследования последних двух десятилетий неизменно показывают, что склонность к стыду связана с широким спектром психологических симптомов. Они варьируются от низкой самооценки, депрессии и беспокойства до симптомов расстройства пищевого поведения, посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и суицидальных мыслей (Andrews et al.2000, Эшби и др. 2006 г., Брюин и др. 2000, Crossley & Rockett 2005, Feiring & Taska 2005, Feiring et al. 2002 г., Фергюсон и др. 2000, Ghatavi et al. 2002, Харпер и Ариас 2004, Хендерсон и Зимбардо 2001, Лескела и др. 2002, Mills 2003, Murray et al. 2000, Орсилло и др. 1996 г., Sanftner et al. 1995 г., Стювиг и Макклоски, 2005 г .; см. также обзор в Tangney & Dearing 2002). Негативные психологические последствия стыда очевидны для разных методов измерения, разных возрастных групп и групп населения.Как клиническая литература, так и эмпирические исследования согласны с тем, что люди, часто испытывающие чувство стыда за себя, соответственно, более уязвимы перед целым рядом психологических проблем.
Хотя традиционная точка зрения состоит в том, что вина играет важную роль в психологических симптомах, эмпирические результаты были более двусмысленными. Клиническая теория и тематические исследования часто ссылаются на неадаптивную вину, характеризующуюся хроническим самообвинением и навязчивыми размышлениями о своих проступках (Blatt 1974, Ellis 1962, Freud 1924/1961, Hartmann & Loewenstein 1962, Rodin et al.1984, Weiss 1993). Однако недавно теоретики и исследователи подчеркнули адаптивные функции вины, особенно в отношении межличностного поведения (Baumeister et al. 1994, 1995a; Hoffman 1982; Tangney 1991, 1994, 1995b; Tangney et al. 1992; Tangney & Dearing 2002).
Пытаясь согласовать эти точки зрения, Тангни (1996) утверждал, что более ранние работы не учитывали различие между виной и стыдом. Как только человек воспринимает вину как отрицательную эмоцию в ответ на конкретную неудачу или проступок, нет веских причин ожидать, что вина будет связана с плохой психологической адаптацией.Напротив, чувство вины, скорее всего, будет дезадаптивным, когда оно сольется со стыдом. Преимущества вины теряются, когда переживание вины человека («О, посмотрите, что за ужасная вещь , , я сделал , ») усиливается и обобщается на его личность («… , а я ужасный »). человек ”). В конечном счете, проблема заключается в компоненте стыда, а не в компоненте вины, поскольку человек испытывает чувство презрения и отвращения к плохому, дефектному «я».
Более того, такое болезненное чувство стыда трудно преодолеть. Стыд — и смешанная со стыдом вина — предлагают мало возможностей для искупления. Преобразовать «я», дефектное по своей сути, — непростая задача. Таким образом, чувство вины с наложением стыда, скорее всего, является источником болезненного самобичевания и размышлений, так часто описываемых в клинической литературе. Напротив, обычно существует множество путей к искуплению в случае несложного чувства вины, сосредоточенного на конкретном поведении.Человек ( на ) часто имеет возможность изменить нежелательное поведение; ( b ) или, что еще лучше, имеет возможность устранить негативные последствия; ( c ) или, по крайней мере, может принести искренние извинения. И когда невозможно внести эти внешние поправки, можно решить поступить лучше в будущем.
В соответствии с этим концептуальным анализом, эмпирические исследования, которые не принимают во внимание различие между стыдом и виной или которые используют прилагательные контрольный список (и другие глобальные формулировки) меры, которые плохо подходят для различия между стыдом и виной, сообщают что предрасположенность к вине связана с психологическими симптомами (Boye et al.2002, Fontana & Rosenbeck 2004, Ghatavi et al. 2002, Harder 1995, Jones & Kugler 1993, Meehan et al. 1996). Например, используя опросник межличностной вины (O’Connor et al. 1997), Бергольд и Локк (2002) обнаружили, что только шкала вины «ненависти к себе» различает контрольную группу и подростков с диагнозом нервной анорексии. (Авторы пришли к выводу, что на самом деле стыд, а не вина, более важен для клинического понимания этого расстройства пищевого поведения.) конкретное поведение (например,g., основанные на сценариях методы оценки стыда и вины применительно к конкретным ситуациям) показывают, что склонность испытывать «свободную от стыда» вину по существу не связана с психологическими симптомами. Многочисленные независимые исследования сходятся во мнении: склонные к вине дети, подростки и взрослые не подвержены повышенному риску депрессии, беспокойства, низкой самооценки и т. Д. (Gramzow & Tangney 1992; Leskela et al. 2002; McLaughlin 2002; Quiles & Bybee 1997 ; Schaefer 2000; Stuewig & McCloskey 2005; Tangney 1994; Tangney & Dearing 2002; Tangney et al.1991, 1992, 1995).
Тем не менее, стоит отметить, что в большинстве сценариев оценки стыда и вины (включая Тест на самосознание, или TOSCA), большинство ситуаций относительно неоднозначны в отношении ответственности или виновности. Для ситуаций с отрицательной валентностью (но не с положительной валентностью) респондентов просят представить события, в которых они явно потерпели неудачу или каким-то образом нарушили их. Проблемы могут возникать, когда у людей развивается преувеличенное или искаженное чувство ответственности за события, которые находятся вне их контроля или в которые они не имеют личного участия (Ferguson et al.2000, Tangney & Dearing 2002, Zahn-Waxler & Robinson 1995). Вина пережившего — яркий пример такой проблемной реакции вины, которая постоянно связана с психологической дезадаптацией (Кубани и др., 1995, 2004; О’Коннор и др., 2002). В экспериментальном исследовании детей младшего школьного возраста Ferguson et al. (2000) варьировали степень неоднозначности ситуаций в рамках основанной на сценарии меры в отношении ответственности. Они обнаружили положительную взаимосвязь между интернализирующими симптомами (например,ж., депрессия) и склонность к вине особенно в ситуациях, когда ответственность была неоднозначной.
Короче говоря, преимущества вины очевидны, когда люди признают свои неудачи и проступки и берут на себя соответствующую ответственность за свои проступки. В таких ситуациях межличностная выгода от чувства вины, по-видимому, не обходится человеку дорого. Склонность испытывать «свободную от стыда» вину в ответ на явные проступки, как правило, не связана с психологическими проблемами, тогда как стыд неизменно ассоциируется с дезадаптивными процессами и результатами на нескольких уровнях.
Связь моральных эмоций с рискованным, незаконным и нежелательным поведением
Поскольку стыд и вина являются болезненными эмоциями, часто предполагается, что они побуждают людей избегать неправильных поступков. С этой точки зрения ожидаемые стыд и вина должны снизить вероятность проступка и нарушения правил поведения. Но что именно показывают данные?
Эмпирические исследования различных выборок с использованием ряда критериев ясно показывают, что предрасположенность к вине обратно пропорциональна антиобщественному и рискованному поведению.В исследовании студентов колледжей (Tangney, 1994) предрасположенность к вине ассоциировалась с одобрением таких вещей, как «Я бы не украл то, что мне было нужно, даже если бы я был уверен, что мне это сойдет с рук». Точно так же Тиббетс (2003) обнаружил, что предрасположенность студентов колледжа к вине обратно пропорциональна их преступной деятельности, о которой они сообщают сами. Среди подростков склонность к свободному от стыда чувству вины отрицательно коррелировала с правонарушением (Merisca & Bybee 1994, Stuewig & McCloskey 2005; хотя Ferguson et al.1999 обнаружил отрицательную связь между предрасположенностью к вине и проявлением симптомов у мальчиков, противоположное верно для девочек). Моральные эмоции, по-видимому, хорошо укоренились в среднем детстве и будут влиять на моральное поведение на долгие годы (Tangney & Dearing 2002). Дети, склонные к бесстыдному чувству вины в пятом классе, в подростковом возрасте реже подвергались аресту, осуждению и тюремному заключению. Они с большей вероятностью практиковали безопасный секс и реже злоупотребляли наркотиками.Важно отметить, что эти результаты действовали при контроле семейного дохода и образования матерей. Учащиеся колледжей, склонные к чувству вины, также реже злоупотребляют наркотиками и алкоголем (Dearing et al. 2005). Даже среди взрослых, уже находящихся в группе высокого риска, чувство вины, по-видимому, выполняет защитную функцию. В продольном исследовании заключенных тюрьмы, предрасположенность к вине, оцененная вскоре после заключения, негативно предсказывала рецидивизм и злоупотребление психоактивными веществами в течение первого года после освобождения (Tangney et al. 2006).
Картина результатов для стыда совершенно иная, практически нет доказательств, подтверждающих предполагаемую адаптивную природу стыда.В исследованиях детей, подростков, студентов колледжей и сокамерников стыд, по-видимому, не выполняет те же тормозящие функции, что и вина (Dearing et al. 2005, Stuewig & McCloskey 2005, Tangney et al. 1996b). Напротив, исследования показывают, что стыд может даже ухудшить положение. В исследовании детей Ferguson et al. (1999) обнаружили, что предрасположенность к стыду положительно коррелирует с внешними симптомами в Контрольном списке поведения детей. На выборке студентов колледжа Тиббетс (1997) обнаружил положительную взаимосвязь между склонностью к стыду и намерениями противозаконного поведения.Предрасположенность к стыду, оцененная в пятом классе, предсказывала более позднее рискованное поведение при вождении, более раннее начало употребления наркотиков и алкоголя и более низкую вероятность практики безопасного секса (Tangney & Dearing 2002). Точно так же склонность к проблемному чувству стыда была положительно связана с употреблением психоактивных веществ и злоупотреблением ими в зрелом возрасте (Dearing et al. 2005, Meehan et al. 1996, O’Connor et al. 1994, Tangney et al. 2006).
Дифференциальная связь стыда и вины с моральным поведением не может распространяться на все группы населения по отношению ко всем видам поведения.Харрис (2003) оценил опыт стыда и вины среди лиц, управляющих транспортным средством в нетрезвом виде, после их появления в суде или на конференции по восстановительному правосудию. В отличие от большинства дошедших до нас исследований, Харрис не обнаружил доказательств того, что стыд и вина являются отдельными факторами. Важно отметить, что это исследование было сосредоточено на уникальной однородной выборке (осужденные водители в нетрезвом виде, многие из которых имеют проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами) и на одном типе правонарушений. Открытия Харриса поднимают интригующую возможность того, что люди с проблемами злоупотребления психоактивными веществами могут не иметь четко дифференцированных переживаний стыда и вины.С другой стороны, чувство вины и сопутствующее ей эмпатическое сосредоточение на пострадавшем другом могут быть менее значимыми для проступков, таких как вождение в нетрезвом виде, которые обычно не приводят к объективному физическому ущербу для других. (То есть масштабы последствий автомобильной аварии потенциально огромны, тогда как вероятность ее возникновения в каждом конкретном случае довольно мала. Большинство преступников, управляющих автомобилем в нетрезвом виде, арестовываются за неуравновешенное вождение, а не на месте аварии с фактическим участием причинение вреда другому человеку.)
В итоге, эмпирические результаты сходятся, показывая, что чувство вины, но не стыда, является наиболее эффективным средством мотивации людей к выбору нравственного пути в жизни. Способность чувствовать вину более склонна к формированию модели морального поведения на протяжении всей жизни, мотивируя людей брать на себя ответственность и принимать меры по исправлению положения после случайных неудач или проступков. Напротив, исследования связывают стыд с целым рядом незаконных, рискованных или других проблемных видов поведения. Таким образом, при рассмотрении благополучия человека, его или ее близких отношений или общества чувство вины представляет собой нравственную эмоцию выбора.
Есть ли место эмоциям в принятии моральных решений?
Повседневная жизнь полна моральных решений. Некоторые из них настолько автоматичны, что не могут зарегистрироваться — например, придерживая дверь для матери, которая борется с коляской, или сопротивляясь мимолетному побуждению ударить локтем парня, который подстригает вас в очереди в Starbucks. Других раздражает еще больше, например, они решают, давать ли деньги фигуре, которая трясет монетами в темноте вечерней поездки на работу. Желание помочь, боязнь опасности и анализ содержания моего кошелька по рентабельности; все эти инстинктивные реакции и аргументированные аргументы крутятся под сознанием.
В то время как общество побуждает людей к нравственно похвальному выбору с помощью законов и полиции, а религиозные традиции оговаривают добро и зло посредством божественных заповедей, Священных Писаний и проповедей, последнее слово остается за каждым из наших голов. Рациональное мышление, конечно, играет роль в том, как мы принимаем моральные решения. Но на наши моральные компасы также сильно влияют мимолетные силы отвращения, нежности или страха.
Должны ли субъективные чувства иметь значение при выборе правильного и неправильного? Философы обсуждали этот вопрос тысячи лет.Некоторые говорят абсолютно: эмоции, как наша любовь к друзьям и семье, являются важной частью того, что придает жизни смысл, и должны играть направляющую роль в нравственности. Некоторые говорят, что категорически нет: холодное, беспристрастное, рациональное мышление — единственный правильный способ принять решение. Эмоции против разума — это одно из старейших и самых эпичных противостояний, которые мы знаем.
Может ли использование современных научных инструментов для разделения супа морального принятия решений — заглядывания в мозг, чтобы увидеть, как на самом деле действуют эмоции и разум, — пролить свет на эти философские вопросы? Область морального познания, междисциплинарные усилия исследователей в области социальной и когнитивной психологии, поведенческой экономики и нейробиологии, пытались сделать именно это.С начала 2000-х психологи-моралисты использовали экспериментальные модели для оценки поведения людей и их результативности при выполнении определенных задач, а также сканирование с помощью фМРТ, чтобы выявить скрытую активность мозга и пролить свет на структуру морального мышления.
Один пионер в этой области, философ и профессор психологии Гарвардского университета Джошуа Грин, объединил культовый и тернистый этический мысленный эксперимент — «проблему тележки», когда вы должны решить, щелкнуть ли вы выключателем или нажать кнопку человека с пешеходного моста, чтобы убить одного человека вместо пяти — с помощью томографии мозга еще в 2001 году.Эти и последующие эксперименты помогли демистифицировать роль, которую интуиция играет в том, как мы делаем этические компромиссы, и в конечном итоге показали, что моральные решения подвержены тем же предубеждениям, что и решения любого другого типа.
Я говорил с Грином о том, как исследования морального познания освещают роль эмоций в морали — с научной точки зрения, но, возможно, и с философской точки зрения. Ниже представлена слегка отредактированная и сжатая стенограмма нашего разговора.
Лорен Кассани Дэвис : Ваше исследование показало, что интуиция людей относительно правильного и неправильного часто влияет на их решения способами, которые кажутся иррациональными.Если мы знаем, что они могут сбить нас с пути, полезны ли наши моральные интуиции?
Джошуа Грин : О, конечно. Наши эмоции, наши инстинктивные реакции развивались биологически, культурно и в результате нашего личного опыта, потому что они хорошо служили нам в прошлом — по крайней мере, в соответствии с определенными критериями, которые мы можем или не можем одобрять. Идея не в том, что они все плохие, а скорее в том, что они не обязательно способны помочь нам справиться с современными моральными проблемами, видами проблем, которые люди не согласны по поводу культурных различий и созданных новых возможностей или проблем. по технологиям и так далее.
Дэвис : Вы описываете моральное принятие решений как процесс, который сочетает в себе два типа мышления: «ручное» мышление, которое медленное, сознательно контролируемое и основанное на правилах, и «автоматические» умственные процессы, которые являются быстрыми, эмоциональными, и без усилий. Насколько широко распространена теория человеческого разума о «двойных процессах»?
Грин : Я не участвовал в опросе, но определенно — не только с точки зрения морали, но и с точки зрения принятия решений в целом — очень трудно найти газету, которая не поддерживает, критикует или иным образом не взаимодействует с двойным. перспектива процесса.В первую очередь благодаря Дэниелу Канеману [автору Thinking, Fast and Slow ] и Амосу Тверски и всему, что следует за ними, это доминирующая точка зрения в суждениях и принятии решений. Но у него есть критики. Есть люди, особенно из нейробиологии, которые думают, что это слишком упрощенно. Они начинают с мозга и очень хорошо осознают его сложность, осознают, что эти процессы динамичны и взаимодействуют, осознают, что там не только два контура, и в результате они говорят, что структура двойного процесса неверна.Но для меня это просто разные уровни описания, разные уровни специфичности. Я не встречал никаких свидетельств, которые заставили бы меня переосмыслить основную идею о том, что автоматическая и контролируемая обработка данных вносят существенный вклад в суждение и принятие решений.
Дэвис : Эти нейронные механизмы, которые вы описываете, участвуют в принятии любого решения, верно? — мозг взвешивает эмоциональную реакцию с помощью более просчитанного анализа затрат и выгод, решаете ли вы, столкнуть ли парня с моста чтобы спасти людей от сбежавшего поезда, или стараясь не поддаваться порыву, купить пару обуви.
Грин : Верно, это вообще не относится к морали.
Дэвис : Имеет ли это значение для того, насколько мы думаем о морали как о особенной или уникальной?
Грин : О, конечно. Я думаю, что это самый ясный урок за последние 10-15 лет, изучающий мораль с нейробиологической точки зрения: насколько мы можем судить, нет никаких отличительных моральных способностей. Вместо этого мы видим, как разные части мозга выполняют те же действия, что и в других контекстах.Нет никаких особых моральных контуров, моральной части мозга или особого типа морального мышления. Моральное мышление делает моральное мышление функцией, которая играет в обществе, а не механическими процессами, которые происходят в мозгу, когда люди это делают. Я, среди прочих, считаю, что функция — это сотрудничество, позволяющее эгоистичным людям пользоваться плодами совместной жизни и совместной работы.
Дэвис : Идея о том, что морали нет особого места в мозгу, кажется нелогичной, особенно когда вы думаете о святости, окружающей мораль в религиозном контексте, и ее связи с божественным.Были ли у вас когда-нибудь возражения — люди говорили, что это универсальное механическое объяснение кажется неправильным?
Грин : Да, люди часто предполагают, что мораль должна быть особой вещью в мозгу. И вначале было — и до некоторой степени все еще есть — множество исследований, сравнивающих размышления о моральных вещах с размышлениями о подобных неморальных вещах, и исследователи говорят: ага, вот нейронные корреляты морали. . Но, оглядываясь назад, кажется очевидным, что, когда вы сравниваете моральный вопрос с неморальным, если вы видите какие-либо различия, то это не потому, что моральные вещи задействуют особый вид познания; вместо этого, это что-то более основное о содержании того, что рассматривается.
«Вы серьезно относитесь к выводам, которые на интуитивном уровне вам не нравятся?»Дэвис : Специалисты по профессиональной этике часто спорят о том, несем ли мы большую моральную ответственность за вред, причиненный чем-то, что мы активно сделали, чем что-то, что мы пассивно допустили — например, в медицинских учреждениях, где врачам по закону разрешено позволить кому-то умереть; но не для того, чтобы активно покончить с жизнью неизлечимо больного пациента, даже если они этого хотят. Вы утверждали, что это «различие действия и бездействия» может черпать свою силу из случайных особенностей нашего ментального механизма.Улетели ли подобные идеи в реальный мир?
Грин : В течение некоторого времени люди высказывали похожие мнения. Питер Сингер, например, говорит, что мы должны больше сосредотачиваться на результатах, а не на том, что он считает побочными чертами самого действия. Он выступает за то, чтобы сосредоточить внимание на качестве жизни, а не на ее святости. Идея святости жизни подразумевает, что допустить кого-то умереть — это нормально, но нельзя активно отнимать чью-то жизнь, даже если это то, чего они хотят, даже если у них нет качества жизни.Так что, безусловно, идея быть менее мистическим в этих вещах и более прагматично думать о последствиях и позволять людям выбирать свой собственный путь — я думаю, это оказало очень большое влияние на биоэтику. И я думаю, что приношу дополнительную поддержку этим идеям.
Дэвис : Философы долгое время гордились тем, что используют разум — часто почитаемый как великолепную, непогрешимую вещь, а не эмоции, — для решения моральных проблем. Но в какой-то момент в вашей книге « Моральных племен, » вы эффективно развенчиваете работу одного из самых знаковых сторонников разума, Иммануила Канта.Вы говорите, что многие аргументы Канта — это просто эзотерические объяснения эмоций и интуиции, унаследованных им от своей культуры. Вы сказали, что его самые известные аргументы принципиально не отличаются от других его менее известных аргументов, выводы которых мы сегодня редко принимаем всерьез — например, его аргумент о том, что мастурбация является морально неправильной, поскольку предполагает «использование самого себя как средства». Как люди отреагировали на такое толкование?
Грин : Как вы могли догадаться, есть философы, которым это действительно не нравится.Мне нравится думать, что я изменил мнение некоторых людей. Что, кажется, происходит чаще, так это то, что люди, которые только начинают и впервые сталкиваются со всеми этими дебатами и множеством идей, но которые еще не заинтересованы в той или иной стороне и которые разбираются в науке, читают это и сказать, ну да, это имеет смысл.
Дэвис : Как мы можем узнать, действительно ли мы занимаемся моральными рассуждениями, а не просто рационализируем свои эмоции?
Грин : Я думаю, один из способов сказать: серьезно ли вы относитесь к выводам, которые на интуитивном уровне вам не нравятся? Вы боретесь со своими внутренними реакциями? Я думаю, что это самый ясный признак того, что вы действительно обдумываете это, а не просто оправдываете свои инстинктивные реакции.
Дэвис : Что, по вашему мнению, означает мудрость в контексте всего, что вы изучали, от философии до психологии?
Грин : Я бы сказал, что мудрый человек — это тот, кто может управлять своим умом так же, как опытный фотограф может управлять камерой. Вам нужно не только хорошо владеть автоматическими настройками и ручным режимом, но и хорошо понимать, когда использовать один, а когда — другой. И на какие автоматические настройки следует полагаться, в частности, в каких обстоятельствах.
В течение жизни у вас формируется интуиция относительно того, как действовать, но затем обстоятельства могут измениться в течение вашей жизни. И то, что сработало в один момент, не сработало в другом. Таким образом, вы можете выработать интуицию высшего порядка о том, когда отпустить и попробовать что-то новое. На самом деле не существует идеального алгоритма, но я бы сказал, что мудрый ум — это тот, который имеет правильные уровни жесткости и гибкости на нескольких уровнях абстракции.
Дэвис : Что вы думаете о потенциале конкретных интроспективных техник — я имею в виду медитацию или техники внимательности из буддийской традиции — чтобы действовать как средство улучшения нашего собственного морального самосознания?
Грин : Интересная связь — вы исследуете свой собственный умственный механизм в медитации.Вы учитесь управлять своим разумом так же, как опытный фотограф учится обращаться со своим фотоаппаратом. Итак, вы развиваете навыки высшего порядка, при которых вы не только думаете, но и думаете о том, как думать, и отслеживаете свое собственное мышление более низкого уровня с более высокого уровня — у вас есть это интегрированное иерархическое мышление.
И из того, что я слышал от людей, изучающих ее, некоторые виды медитации действительно поощряют сострадание и готовность помогать другим.Мне это кажется очень правдоподобным. Таня Сингер, например, недавно проделала некоторую работу над этим, которая была интересной и очень убедительной. Я не могу говорить об этом как эксперт, но, основываясь на том, что я слышал от уважаемых мною ученых, мне кажется правдоподобным, что правильная медитация может изменить вас так, что большинство людей сочтут моральным. улучшение.
Моральные эмоции | SpringerLink
- Джонатан Х. Тернер
- Ян Э. Стетс
Глава
- 40 Цитаты
- 8.1к Загрузки
Abstract
«Моральные эмоции» часто рассматриваются как стыд, вина, симпатия и сочувствие (Tangney, Dearing, 2002) и, в меньшей степени, презрение, гнев и отвращение (Rozin et al. al. 1999), но момент размышления показывает, что эта точка зрения слишком узка. Вкус человеческих эмоций намного шире и разнообразнее, чем этот краткий список моральных эмоций; и поскольку человеческие способности к эмоциям эволюционировали, чтобы увеличить моральные обязательства перед другими, социальными структурами и культурой, гораздо больше эмоций имеют моральные последствия.Например, праведность, трепет, почитание, радость, счастье, раскаяние, месть и даже печаль могут означать эмоциональное возбуждение над моральными проблемами, как мы надеемся продемонстрировать. Более того, как ясно говорится в литературе, возбуждение эмоций, таких как стыд и вина, может привести в движение когнитивные и психодинамические процессы, такие как атрибуция, состояния ожидания, подавление, замещение или проекция, которые трансмутируют первоначальное возбуждение эмоции, такой как стыд, в гнев. страх, отвращение и ненависть (Lewis 1971; Scheff 1990; Turner 2002).Эти и другие эмоциональные состояния в конечном итоге связаны с моралью, даже если человек и другие не полностью осознают эту связь. Таким образом, с социологической точки зрения изучение моральных эмоций вскоре задействует гораздо более широкий спектр человеческих эмоций. Цель состоит в том, чтобы понять как социокультурную динамику, так и психодинамику, с помощью которых эмоциональное возбуждение подпитывается соображениями морали.
Ключевые слова
Негативная эмоция Моральная идентичность Моральная эмоция Эмоция человека Моральный кодексЭти ключевые слова были добавлены машиной, а не авторами.Это экспериментальный процесс, и ключевые слова могут обновляться по мере улучшения алгоритма обучения.
Это предварительный просмотр содержимого подписки,
войдите в, чтобы проверить доступ.
Предварительный просмотр
Невозможно отобразить предварительный просмотр. Скачать превью PDF.
Источники
Аверилл, Джеймс Р. 1982.
Гнев и агрессия: эссе об эмоциях. Нью-Йорк: Springer-Verlag.
Google Scholar-. 1993 г.«Иллюзии гнева». Стр. 57–68 в
Агрессия и насилие: точки зрения социального взаимодействия, под редакцией Р. Б. Фелсона и Дж. Т. Тедески. Вашингтон, округ Колумбия: Американская психологическая ассоциация.
Google ScholarБаумейстер, Рой Ф., Арлин М. Стиллвелл и Тодд Ф. Хизертон. 1994. «Вина: межличностный подход».
Психологический бюллетень115: 243–267.
CrossRefGoogle ScholarБрейтуэйт, Джон. 1989 г.
Преступление, позор и реинтеграция. Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
Google ScholarЧен Д. П. и Р. Н. Сингер. 1992. «Саморегуляция и когнитивные стратегии при занятиях спортом».
Международный журнал спортивной психологии23: 277–300.
Google ScholarКларк, Кэндис. 1990. «Эмоции и микрополитика в повседневной жизни: некоторые модели и парадоксы« места »». Стр. 305–333 в
Research Agendas in the Sociology of Emotions, под редакцией Т.Д. Кемпер. Олбани: Государственный университет Нью-Йорка.
Google Scholar-. 1997.
Несчастье и компания: сочувствие в повседневной жизни. Чикаго: Издательство Чикагского университета.
Google ScholarКоулман, Джеймс С. 1990.
Основы социальной теории. Кембридж, Массачусетс: Belknap Press of Harvard University Press.
Google ScholarДэвис, Марк Х. 1994.
Эмпатия: социально-психологический подход.Боулдер, Колорадо: Westview.
Google Scholarde Waal, Frans. 1996.
Добродушие: истоки правильного и неправильного у людей и других животных. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета.
Google ScholarEisenberg, Nancy. 1986.
Альтруистическое познание, эмоции и поведение. Хиллсдейл, Нью-Джерси: Эрлбаум.
Google ScholarЭйзенберг, Нэнси и Пол Миллер. 1987. «Сочувствие, симпатия и альтруизм: эмпирические и концептуальные связи.”Стр. 292–311 в
Эмпатия и ее развитие, под редакцией Н. Айзенберга и Дж. Страйера. Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета.
Google ScholarГилберт, Пол. 1997. «Эволюция социальной привлекательности и ее роль в стыде, унижении, вине и терапии».
Британский журнал медицинской психологии70: 113–147.
Google ScholarГрамцов Ричард и Джун П. Тангни. 1992. «Склонность к стыду и нарциссическая личность.”
Бюллетень личности и социальной психологии18: 369–376.
Google ScholarХайдт, Джонатан. 2003. «Моральные эмоции». Стр. 852–870 в
Справочник по аффективным наукам, под редакцией Р. Дж. Дэвидсона, К. Р. Шерера и Х. Х. Голдсмита. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.
Google ScholarХехтер, Майкл. 1987.
Принципы групповой солидарности. Беркли: Калифорнийский университет Press.
Google ScholarХоффман, Мартин Л. 2000.
Сочувствие и нравственное развитие: значение для заботы и справедливости. Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета.
Google ScholarХаузер, Джеффри А. и Майкл Дж. Ловалья. 2002. «Статус, эмоции и развитие солидарности в стратифицированных рабочих группах». Стр. 109–137 в
Успехи в групповых процессах, Vol. 19, под редакцией С. Р. Тай и Э. Дж. Лоулера. Гринвич, Коннектикут: JAI.Нажмите.
CrossRefGoogle ScholarJasso, Guillermina. 1980. «Новая теория справедливого распределения доходов».
Американский социологический обзор45: 3–32.
CrossRefGoogle ScholarКемпер, Теодор Д. 1991. «Предсказание эмоций на основе социальных отношений».
Social Psychology Quarterly54: 330–342.
CrossRefGoogle ScholarЛоулер, Эдвард Дж. 2001. «Аффектная теория социального обмена».
Американский журнал социологии107: 321–352.
CrossRefGoogle ScholarЛейт, Карен П. и Рой Ф. Баумейстер. 1998. «Сочувствие, стыд, вина и рассказы о межличностных конфликтах: склонные к вине люди лучше воспринимают перспективу».
Личный журнал66: 1–37.
CrossRefGoogle ScholarLewis, Helen. 1971.
Стыд и вина при неврозах. Нью-Йорк: Пресса международных университетов.
Google ScholarМакколл, Джордж Дж., и Дж. Л. Симмонс. 1978.
Идентичности и взаимодействия. Нью-Йорк: Свободная пресса.
Google ScholarМаккалоу, Майкл Э., Шелли Д. Килпатрик, Роберт А. Эммонс и Дэвид Б. Ларсон. 2001. «Влияет ли благодарность на мораль?»
Психологический бюллетень127: 249–266.
CrossRefGoogle ScholarMead, George H. 1934.
Mind, Self, and Society. Чикаго: Издательство Чикагского университета.
Google ScholarМиллер, Пол А., и Нэнси Айзенберг. 1988. «Отношение сочувствия к агрессивному и экстернализирующему / антиобщественному поведению».
Психологический бюллетень103: 324–344.
CrossRefGoogle ScholarМиллер, Роуленд С. и Джун Прайс Тэнни. 1994. «Как отличить смущение от стыда».
Журнал социальной и клинической психологии13: 273–287.
Google ScholarМоррис, Герберт. 1987. «Неморальная вина». Стр. 220–240 в
Ответственность, характер и эмоции, под редакцией Ф.Шуман. Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета.
Google ScholarРетцингер, Сюзанна М. 1987. «Негодование и смех: видео-исследования спирали стыда и ярости». Стр. 151–181 в
Роль стыда в формировании симптомов, под редакцией Х. Б. Льюиса. Хилдсдейл, Нью-Джерси: Эрлбаум.
Google ScholarРозин, Пол, Джонатан Хайдт и Кларк Р. Макколи. 2000. «Отвращение». Стр. 637–653 в
Справочник эмоций, под редакцией М.Льюис и Дж. М. Хэвиланд-Джонс. Нью-Йорк: Гилфорд.
Google ScholarРозин, Пол, Лаура Лоури, Сумио Имада и Джонатан Хайдт. 1999. «Гипотеза триады CAD: отображение трех моральных эмоций (презрение, гнев, отвращение) и трех моральных кодов (сообщество, автономия, божественность)».
Журнал личности и социальной психологии76: 574–586.
CrossRefGoogle ScholarScheff, Thomas J. 1979.
Catharsis in Healing, Ritual, and Drama.Беркли: Калифорнийский университет Press.
Google Scholar-. 1987. «Спираль стыда и ярости: пример бесконечной ссоры». Стр. 109–149 в
Роль стыда в формировании симптомов, под редакцией Х. Б. Льюиса. Хиллсдейл, Нью-Джерси: Эрлбаум.
Google Scholar-. 1990. «Социализация эмоций: гордость и стыд как причинные факторы». Стр. 281–304 в
Research Agendas in the Sociology of Emotions, под редакцией Т.Д. Кемпер. Олбани: State University of New York Press
Google Scholar-. 1997.
Эмоции, социальные связи и человеческая реальность: частичный / полный анализ. Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
Google ScholarШефф, Томас Дж. И Сюзанна М. Ретцингер. 1991.
Эмоции и насилие: стыд и ярость в разрушительных конфликтах. Лексингтон, Массачусетс: Lexington Books / D. С. Хит.
Google ScholarSchutz, Alfred.[1932] 1967.
Феноменология социального мира. Эванстон, Иллинойс: Издательство Северо-Западного университета.
Google ScholarШотт, Сьюзен. 1979. «Эмоции и социальная жизнь: символический интеракционистский анализ».
Американский журнал социологии84: 1317–1334.
CrossRefGoogle ScholarШведер, Ричард А., Нэнси К. Мач, Манамохан Махапатра и Лоуренс Парк. 1997. «Большая« тройка »морали (автономия, общность и божественность) и большая« тройка »объяснений страдания.”Стр. 119–169 в
Нравственность и здоровье, под редакцией А. Брандта и П. Розина. Нью-Йорк: Рутледж.
Google ScholarSimmel, Georg. 1950.
Социология Георга Зиммеля. Нью-Йорк: Свободная пресса.
Google ScholarСмит, Адам. [1790] 1976.
Теория моральных чувств. Оксфорд: Кларендон.
Google ScholarСмит, Кристиан. 2003.
Нравственные, верящие животные: человеческая личность и культура.Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.
Google ScholarСтец, Ян Э. и Питер Дж. Берк. 2005. «Новые направления в теории контроля личности».
Успехи в групповых процессах22: 43–64.
CrossRefGoogle ScholarСтец, Ян Э. и Майкл Дж. Картер. 2006. «Моральная идентичность: идентичность на принципиальном уровне». С. 293–316 в
Цель, значение и действие: теории систем управления в социологии, под редакцией К. МакКлелланда и Т.J. Fararo. Нью-Йорк: Пэлгрейв Макмиллан.
Google ScholarСтрайкер, Шелдон. 2002.
Символический интеракционизм: социальная структурная версия. Колдуэлл, Нью-Джерси: Блэкберн.
Google ScholarTangney, June Price. 1991. «Моральное влияние: хорошее, плохое и уродливое».
Журнал личности и социальной психологии61: 598–607.
CrossRefGoogle Scholar-. 1994. «Смешанное наследие Супер-эго: адаптивные и дезадаптивные аспекты стыда и вины.”Стр. 1–28 в
Эмпирические перспективы теории объектных отношений, под редакцией Дж. М. Маслинга и Р. Ф. Бернстайна, Вашингтон, округ Колумбия: Американская психологическая ассоциация.
CrossRefGoogle ScholarТанни, Джун Прайс и Ронда Л. Диринг. 2002.
Позор и вина. Нью-Йорк: Гилфорд.
Google ScholarТамм, Роберт. 2004. «К универсальной теории силы и статуса эмоций».
Успехи в групповых процессах21: 189–222.
CrossRefGoogle ScholarTomkins, Silvan Solomon. 1963.
Влияние образа на сознание: Vol. 2.
Негативное влияние. Нью-Йорк: Спрингер.
Google ScholarТриверс, Роберт Л. 1971. «Эволюция реципрокного альтруизма».
Ежеквартальный обзор биологии46: 35–57.
CrossRefGoogle ScholarТернер, Джонатан Х. 2000.
О происхождении человеческих эмоций: социологическое исследование эволюции человеческих эмоций.Стэнфорд, Калифорния: Издательство Стэнфордского университета.
Google Scholar-. 2002.
Лицом к лицу: к социологической теории межличностного поведения. Стэнфорд, Калифорния: Издательство Стэнфордского университета.
Google ScholarТернер, Джонатан Х. и Ян Э. Стетс. 2005.
Социология эмоций. Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета.
Google ScholarWeiner, Bernard. 1986.
Атрибуционная теория мотивации и эмоций.Нью-Йорк: Springer-Verlag.
Google ScholarУильямс, Робин Мерфи. 1970.
Американское общество: социологическая интерпретация. Нью-Йорк: Кнопф.
Google ScholarЗан-Вакслер, Кэролайн и Джоанн Робинсон. 1995. «Сочувствие и вина: ранние истоки чувства ответственности». Стр. 143–173 в
Самосознательные эмоции: психология стыда, вины, смущения и гордости, под редакцией К. В. Фишера и Дж.П. Тангни. Нью-Йорк: Гилфорд.
Google Scholar
Информация об авторских правах
© Springer Science + Business Media, LLC 2006
Авторы и аффилированные лица
- Джонатан Х. Тернер
- Ян Э. Стетс
- 1. Кафедра социологии 9058 Университета Калифорнии 910 Риверсайд
Как ваши эмоции влияют на ваш моральный компас?
Нам хотелось бы верить, что мы выносим моральные суждения на основе рационального мышления, но правда в том, что наше моральное мышление не может избежать наших эмоций.Давайте посмотрим, как тревога, сочувствие, гнев и отвращение формируют наше моральное мышление и как мы можем использовать эти эмоции для принятия более эффективных моральных решений.
Печально известная проблема с тележкой
Представьте себе такой сценарий: проходя мимо железнодорожного вокзала, вы замечаете, что на путях работают строители. На пути есть развилка, поэтому поезд может идти либо налево, либо направо. На левом пути работает только один человек. На правильном пути работают пять человек.У всех есть наушники с шумоподавлением, и они, кажется, не знают, что происходит вокруг.
Внезапно вы видите, как по рельсам едет вышедший из-под контроля вагон — должно быть, он вылетел из поезда! Развилка пути направлена вправо, поэтому вышедшая из-под контроля машина направляется прямо к пятерым рабочим, наверняка убивая их всех. Невозможно остановить вагон. Единственное, что вы можете сделать, — это нажать на переключатель, чтобы перенаправить машину на левый путь, что убило бы одного там рабочего.
Вы тянете выключатель?
Это сложно, не правда ли? С одной стороны, кажется очевидным, что убить одного человека, чтобы спасти пятерых, лучше, чем убить пятерых, чтобы спасти одного. С другой стороны, перенаправление трека потребует от вас намеренно вызвать чью-то смерть, вместо того, чтобы позволить аварии развиваться своим чередом. Большинство из нас по крайней мере брезгливо относится к выбору «убить одного-спас-пять», но большинство из нас, когда на него настаивают, соглашаются с ним. По крайней мере, если гипотетически об этом спросить.
Это классическая моральная дилемма, называемая проблемой тележки. Многие философы и психологи использовали его, чтобы изучить и обдумать то, как мы думаем о морали. Они задали большой вопрос: «Основываются ли люди на этих решениях на рациональном мышлении или на них влияют другие факторы?»
Что ж, рассмотрим этот поворот в задаче о троллейбусе для своего ответа: что, если нет переключателя для перенаправления вагона поезда, но идет большой незнакомец, которого вы могли бы вытолкнуть на рельсы? Этот человек был бы убит, но его тело не позволило бы поезду убить пятерых строителей.Вы бы столкнули незнакомца?
Здесь математика та же — жертвовать одним, чтобы спасти пятерых.
 В отличие от… … Большая психологическая энциклопедия
В отличие от… … Большая психологическая энциклопедия emotive волнующий, возбуждающий, от лат. emoveo волную, потрясаю) метаэтическая теория, согласно которой главная функция этических (оценочных и императивных) высказываний выражать эмоции говорящего и возбуждать соответствующие чувства и… … Философская энциклопедия
emotive волнующий, возбуждающий, от лат. emoveo волную, потрясаю) метаэтическая теория, согласно которой главная функция этических (оценочных и императивных) высказываний выражать эмоции говорящего и возбуждать соответствующие чувства и… … Философская энциклопедия